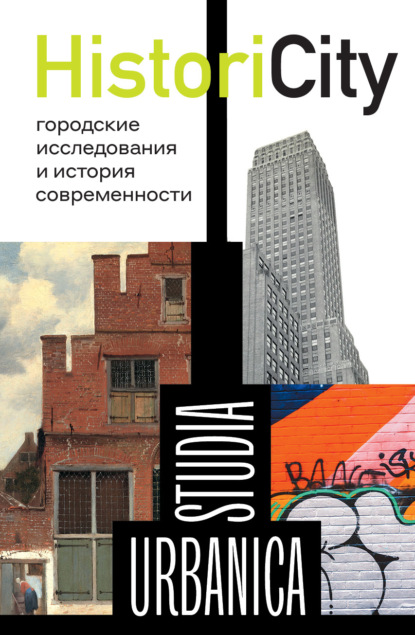
Полная версия:
HistoriCity. Городские исследования и история современности
Роль представителей патрициата – как частных лиц, так и городских служащих, а также клириков – была огромна не только в формировании архитектурной среды ренессансных городов, но и в формировании их представлений о собственном прошлом. Это продемонстрировано в исследовании Бенедикта Мауэра, озаглавленном «Неоднородная память», которое посвящено типологии городских хроник в Южной Германии97. Для сопоставления им выбраны семь городов в южной немецкоязычной части Священной Римской империи германской нации: в трудах своих хронистов каждый из этих городов получил свое прошлое, не похожее – с точки зрения конституционной истории и истории основания – на остальные.
Как пример имперского города взят Аугсбург; как столица архиепископства и резиденция архиепископа – Зальцбург; Берн представляет тип города, который в XVI–XVII вв. уже не может считаться безусловно «имперским городом» (Reichsstadt)98, поскольку он отделился от империи и был столицей крупной территории. В качестве примеров небольших городов, тесно связанных с сельской округой, Мауэром были исследованы вюртембергские коммуны, такие как штауфенский город Вайблинген, Тюбинген, основанный пфальцграфом в XIV в. и ставший позже университетским городом, Фройденштадт, основанный в раннее Новое время, и Нойенштадт-на-Кохере.
Один из важнейших вопросов, встающих перед исследователем городских хроник, – это вопрос о том, какова была их запланированная функция. В поиске ответа на этот вопрос важнейшую роль играет контекст их возникновения. Городская хронистика не была исключительно заказной историографией, созданной по воле городских властей. Из анализируемых Мауэром городов только в Берне были городские хроники, писавшиеся по заказу99 или под контролем городского совета, которые можно назвать «публичной memoria»100. Их можно рассматривать именно как «городские хроники», не связанные преимущественно с инициативой авторов, а возникшие именно по воле властей города. Хронистам давали доступ в архивы, а значит – контролируемый доступ к «тайнам власти» (arcana imperii), и, соответственно, взгляд автора отличается особой близостью к взгляду городского совета.
В Берне, Аугсбурге и Зальцбурге наблюдается схожий феномен101: самые ранние труды по истории города использовались последующими авторами XVI–XVIII вв. как основа, к которой хронисты добавляли что-то свое, но не критиковали и не меняли ничего в «канонической» версии. В Берне такой основой стали хроники Конрада Юстингера102, в Аугсбурге – Сигизмунда Майстерлина103, в Зальцбурге – Виргилиуса Райтгертлера104.
Стало общим местом говорить, что у коммун всех типов существовал интерес к собственному прошлому: этим объясняют возникновение исторических произведений, задающих и сохраняющих воспоминание. На самом деле установить мотивы хронистов трудно, подчеркивает Мауэр, но предпринимает все же попытку это сделать. Некоторая информация в источниках для этого обнаруживается. Так, до нас дошли четыре зальцбургские хроники, в которых авторы говорят о своих интенциях. Иоганн Штайнхаузер, выходец из видной купеческой семьи, учившийся в университетах Ингольштадта, Падуи и Болоньи, хотел написать историю «достохвального архиепископства Зальцбург как моего горячо любимого отечества и в особенности архиепископской столицы – города Зальцбурга, который произвел меня на свет»105. И он написал такую историю (окончена в 1601 г.). Другой хронист, Йозеф Бенигнус Шлахтнер106, сын пекаря, сделавший необычную карьеру – он стал стряпчим, потом нотариусом, потом временным директором княжеско-архиепископской библиотеки и, наконец, актером-любителем, – сослался в качестве мотивировки на то, что на тот момент (1669) хроник Зальцбурга не существовало, а в протестантских сочинениях по истории этого города было, по его словам, столько же неправды, «как когда слепой говорит о цвете»107.
Самый известный хронист Зальцбурга – Францискус Дюкхер фон Хаслау цу Винкль, надворный советник, депутат от рыцарского сословия в Зальцбургское сословно-представительское собрание – в 1666 г. тоже писал, что берется за написание своей хроники потому, что нет трудов по истории Зальцбурга108.
Юрист и статский советник Иоганн Франц Таддеус фон Кляйнмайрн в 1784 г. выпустил 600-страничный труд, в котором писал, что рассматривает это сочинение как «памятник своему патриотическому участию». Каждый зальцбуржец, подчеркнул он, «имеет право знать, кто были его предки, каковы были древности, судьбы и достоинство его отечества в былые времена»109. Он, правда, как и все другие, дойдя до деяний св. Руперта (VII в.), стал уделять более внимания епископам и архиепископству, нежели самому городу. Такое растворение истории города в истории того государства, на чьей территории он стоял, встречается и в бернских хрониках, отмечает Мауэр.
Конрад Юстингер в 1420 г. получил заказ от совета Берна: написать историю города, чтобы письменно увековечить его значимость и «великие дела». Это сочеталось с архитектурной программой – строительством собора и ратуши. Юстингер писал, что его цель – «дабы прошлое не пропало в потоке годов, а силой письмен стало вечным памятником и воспоминанием всем людям». Поэтому он опирался на образцы других хроник имперских городов, в том числе Страсбурга, ибо, как он считал, именно имперским городам подобает записывать свою историю. В качестве типологических образцов он использовал и имперские, и папские, и всемирные хроники – в этом он следовал примеру своего учителя Якоба Твингера фон Кёнигсхофена. Таким образом, хроника Юстингера – это и память города, помогающая ему обрести культурную идентичность, и память о городе.
Еще более четко, чем Юстингер, сформулировал суть своего предприятия городской писарь Дибольд Шиллинг (1430–1486) в «Предисловии» (впрочем, мы не знаем, сам ли он его сочинил или оно было ему продиктовано городским советом). В качестве своего адресата он назвал «город Берн» и пояснил, что знание прошлого подобает всякому человеку. В прологе он назвал приоритетные темы своей работы: городскую историю следует рассматривать в контексте завоеваний и судеб швейцарцев. Третий том хроники Шиллинга, посвященный Бургундским войнам, прошел цензуру совета, тогда как в первом томе была просто переписана почти дословно хроника Юстингера. Но, подчеркивает Б. Мауэр110, заметна содержательная переориентация: городская история занимает все меньше места, а вместо нее все больше – война с соседними князьями и городами, восхождение Берна в ранг столицы кантона. Такое растворение истории столицы в истории территории было угодно Бернскому совету: перед его заседаниями и по важным церковным праздникам отрывки из хроники читали вслух111, причем в соборе, что придавало ей едва ли не сакральный характер.
Наряду с официозными были в Берне и другие хроники, заказанные аристократическими семьями, а некоторые были написаны авторами ради собственного употребления. Аристократы, такие как Рудольф фон Эрлах, заказывали хроники, чтобы, как гласит предисловие к «Шпицской иллюстрированной хронике» Шиллинга, подчеркнуть связь своей семьи с Берном. По просьбе знатного бюргера город предоставил хронисту в распоряжение прежние хроники. Это говорит о том, что городские власти строго контролировали использование городской памяти, особенно распространение хроник Юстингера и Шиллинга.
Не столь часто встречаются декларации целей, подобные тем, какие мы находим в хронике служителя Бернского совета Бенедикта Чахтлана или Генриха Дитлингера – современников Шиллинга, использовавших во второй половине XV в. его труд. В качестве адресата ими назван город Берн и его граждане, «во хвалу», и чтобы навечно помнить о «великой мудрости и мужестве, которые проявляли бернцы в былые времена»112. Однако эта хроника не стала собственностью совета, а осталась после смерти Дитлингера у Чахтлана, который потом завещал ее своей дочери. В этом произведении автор, как и Шиллинг, довольно быстро от городской истории перешел к общешвейцарской: город здесь – только центр страны, и «хвала» ему – это хвалебное описание его территориальной экспансии. Цель такой историографии – телеологическая история успехов малой родины в отграничении от других территорий.
Впоследствии это явление тоже сохранилось. Например, Михаель Штеттлер в своей монументальной (11 томов in folio, более 7400 страниц) рукописной хронике Берна, написанной тоже по заказу городских властей и доходящей до 1610 г., отвел около половины объема событиям собственно городской истории – прежде всего религиозным конфликтам, а также другим конфликтам в среде городского населения. Штеттлер был сыном ремесленника, учился в Женеве и Лозанне, служил писарем и потом ландфогтом в Берне. Это дало ему возможность использовать произведения Юстингера, Шиллинга и Ансхельма, а также архивные материалы, которые хранились в городской канцелярии113. В качестве мотивировки он подчеркивал ценность историографии, начиная от Ветхого и Нового Заветов, через Иосифа Флавия, Тита Ливия, Цезаря и Тацита: по сравнению с ними, писал он (возможно, следуя Лютеру114), в немецкоязычном мире истории пишут очень мало. В посвящении властям города хронист подчеркивал, что «потомки должны видеть свое отражение в мудрых делах своих предков, прилежно читать их историю и следовать им в их добродетелях. […] Это и […] освежение достохвальной памяти совершенных городом Берном славных дел подвигли меня […]»115.
Неизвестно, были ли труды Штеттлера доступны публике. Правда, в 1627 г. он опубликовал двухтомник по истории Швейцарии116, в котором основное внимание уделено Берну, – очевидно, это сокращенная версия его монументального рукописного труда. Правда, в центре внимания тут XV–XVII вв. Автор адресовал свое сочинение властям города, подчеркивая, что история дает «некоторое наставление и приготовление […] ко всякому мирскому мудрому правлению и есть наилучшая учительница». Ансхельм тоже подчеркивал дидактическую ценность истории, а чтобы можно было и в будущем учиться у истории, надо «забывчивую человеческую память заменить непреходящими памятными письменами»117.
Итак, примеры Зальцбурга и Берна показывают, что в городской хронистике собственно город с какого-то момента отступает в тень, а на первый план выходит окружающая его и подвластная ему территория. В некоторых (бернских) хрониках, впрочем, он сохраняет свою роль как бы изолированной от округи столицы и главного действующего лица.
У имперского города Аугсбурга не было подвластной округи. Не было у него никогда и официозной историографии, подчеркивает Б. Мауэр118. Далее исследователь опровергает распространенное заблуждение, будто хроника бенедиктинца Сигизмунда Майстерлина Chronographia Augustensium, которая была написана в 1456 г. и стала до середины XVII в. стандартной версией истории города, была создана по заказу городских властей119. На самом деле Майстерлин написал эту «хронографию» по инициативе патриция Зигмунда Госсемброта, своего друга, которому только предстояло в будущем занять пост бургомистра. Сначала книга была написана на латыни, а когда ее преподнесли Госсемброту, он попросил Майстерлина сделать и немецкий вариант. В предисловии Майстерлин писал, что немецкую версию он подготовил ради того, чтобы заслужить благоволение городского совета, а также ради вечной чести и памяти города и ради всеобщей пользы. Город Аугсбург, подчеркивал хронист, «по праву идет впереди всех городов в немецких землях»120. По инициативе Госсемброта эта вторая, немецкая, версия была благодарно принята в дар советом и заняла ведущее место в аугсбургской городской истории. Только в фондах Аугсбургской государственной и городской библиотеки сохранились около 20 списков ее, сделанных в XV–XVI вв., а в 1522 г. ее сильно сокращенная версия была напечатана121.
Предшественник Майстерлина и тоже клирик Кюхлин, создавший рифмованную хронику, также работал не по заказу городских властей: написать историю Аугсбурга его попросил купец Петер Эген, и это произведение затем было в виде картин размещено на фасаде дома Эгена122, сделав его местом визуализированного воспоминания об истории родного города и одновременно сделав эту историю собственностью коммерсанта.
Печатная версия хроники Майстерлина способствовала ее распространению, однако списки были сделаны именно с более полной рукописной версии. Некоторые копии были даже дополнены и снабжены богатыми иллюстрациями, как, например, рукопись Гектора Мюлиха123. Мюлих – современник Майстерлина – был купцом, в течение жизни занимал множество высоких постов в городской администрации Аугсбурга (только бургомистром не был), однако в данном случае его близость к центру власти, похоже, не играла главной роли в решении сделать список: ему не было нужды брать оригинал, подаренный совету, так как дружба с автором позволяла получить прямой доступ к его знаниям. К тому же мы не знаем, держал ли совет труд Майстерлина под замком или разрешал делать списки. Кроме того, Мюлих переработал хронику начиная с 1348 г. – вероятно, используя источники из городской канцелярии, доступные ему. С 1440 г. его произведение носит характер записей «по свежим следам» событий.
Работа Майстерлина задала структуру многих последующих хроник Аугсбурга от основания города: в них после античного периода идет средневековая эпоха, в которой городская и епископская истории переплетаются; в XIII в., когда Аугсбург освобождается от власти епископа, начинается его история как имперского города. С начала XIV столетия в большей части хроник в центре внимания уже стоит именно сам город и касающиеся его события в империи.
В Аугсбурге хроники очень редко печатали. Уже названная сильно сокращенная хроника Майстерлина 1522 г., очень сильно сокращенная версия хроники патриция Маттэуса Лангенмантеля, доведенная до 1519 г.124, а также объединенные в один том труды Маркуса Вельзера125 и Ахилла Пирмина Гассера126 – вот все, что было опубликовано, если говорить именно о хронистике. От себя добавим, что это могло быть проявлением отмеченного выше стремления совета держать память о прошлом подвластного ему города под своим контролем.
Не только городские хроники сосредоточены на истории именно города Аугсбурга, но даже истории аугсбургских епископов описывали их деяния в тесной связи с городской историей, причем, отмечает Б. Мауэр, это было характерно как для католических, так и для протестантских авторов. В качестве основного мотива написания подобных произведений практически всегда назывался интерес к истории родного города.
Что касается малых городов, тесно связанных с окружающей сельской округой, то хронистика их, как констатирует исследователь, в принципе была – в сравнении с имперскими городами – беднее и количественно, и качественно, а в сравнении с зальцбургской их история еще сильнее растворялась в истории окружающей страны. Однако есть и противоположные примеры.
Маленький вюртембергский город Нойенштадт-на-Кохере с 1650 г. до конца XVIII в. был резиденцией нойенштадтской ветви вюртембергского герцогского дома. Здесь посетившему город герцогу Карлу Евгению была преподнесена хроника, написанная до 1782 г.127 диаконом Филиппом Кристофом Грацианусом, который в посвящении подчеркнул тесную связь города с герцогским домом128: «Ваша герцогская светлость благоволит, может быть, всемилостивейше, по своему мудрому обыкновению, познакомиться ближе и с нашим городом и местностью, ибо куда бы Ваша светлость ни бросила свой взгляд, всюду прежде правили Ваши предки или можно сделать еще какие-то хорошие замечания». В этой фразе никаких следов городского самосознания усмотреть невозможно, как и в заключительных словах, что этот «по большей части старинный, однако пребывающий в цветущем состоянии город» обязан своим благоденствием доброму монарху129. Однако автор, излагая историю города в тесной связи с историей окружающих земель и герцогской семьи, все же постоянно сосредоточен на городе, его правах, его судьбах.
Еще сильнее это заметно в «Историческом описании» Карла Вильгельма Фабера130. Подобно зальцбургскому историку Кляйнмайерну, этот автор конца XVIII в. тоже не следовал строго хронологическому порядку, а поделил свой труд на тематические разделы: о названии города, о его положении, о строительстве, о владельцах, о господах в замке и в канцелярии, о духовных и светских судах, о деканате, о монастырях, о договорах и привилегиях, о художниках, о трактирах и цехах, о достопримечательных событиях, о гигантской липе. В качестве источников он использовал опубликованную литературу и документы, полученные благодаря контактам с различными архивариусами. Ни эта, ни какая-либо другая из рассмотренных вюртембергских городских хроник не написана по заказу, и из текста не вытекает никакой конкретной причины или цели ее написания. Мауэр выдвигает предположение, что это произведение могло служить справочником для обоснования старинных привилегий и прав собственности городка.
Иная ситуация во Фройденштадте, история которого дошла до нас в «Кратком описании»131 – рукописи, написанной отчасти на основе расспросов старейших граждан, помнивших основание Фройденштадта в XVI в. Судя по тому, что в манускрипте встречается два разных почерка, можно допустить, что хроника написана двумя авторами, но имена их неизвестны. Первый подчеркивает особое положение Фройденштадта как города рудников и его превосходную фортификацию, второй же – выдающийся облик и события, в том числе Тридцатилетнюю войну. Хотя напрямую интенция авторов и не высказана, Мауэр определяет эту хронику как «короткую, но яркую историю успеха»132.
Тюбингенская хронистика развивалась в основном лишь в XVI и в начале XVII в. Она тоже являет примеры самостоятельно сочиненных произведений, сосредоточенных полностью на истории города. Исключением является произведение Амброзия Кёгеля, который в своей 20-страничной хронике посвятил истории Тюбингена лишь три страницы, а остальное – истории Священной Римской империи на протяжении почти 500 лет. Часть, озаглавленная Tvbingensia, охватывает XV и XVI вв. и посвящена преимущественно смертям, погоде, строительству и катастрофам. В ней не упоминается ни основание университета (1477), ни пожалование Тюбингену городского права (1493). Это, впрочем, скорее исключение, подчеркивает Мауэр. Гораздо больше связана с городом и округой хроника Иоганна Германа Оксенбаха133, в которой история Тюбингена доведена до 1541 г. Этот летописец опирался в том числе и на Кёгеля, однако материала у него гораздо больше. Другие авторы тюбингенских хроник еще сильнее сосредоточены на самом городе.
В Вайблингене важнейшая самостоятельная хроника134 была написана в XVII столетии Вольфгангом Цахером, бывшим фогтом и городским писарем. Он писал под впечатлением разрушения города во время Тридцатилетней войны и последующего его восстановления, однако использовал многочисленные печатные издания, чтобы восстановить историю города от его основания. Впрочем, он уделил внимание и истории империи, встраивая в нее историю своего города. Цахер предпринимал попытки напечатать свою историю, однако успехом они не увенчались.
Говоря о конструировании городского прошлого авторами хроник, Бенедикт Мауэр демонстрирует, что в хронистике история могла использоваться и как источник легитимационной аргументации (например, при отстаивании городом своей независимости от светского или церковного территориального властителя), и как инструмент для создания идентичности. В обоих случаях, однако, первостепенное значение имела история основания города: именно на ней можно было строить притязания, касавшиеся настоящих и будущих прав и привилегий. Картина прошлого, созданная в этих произведениях, не всегда выдерживает научную историческую критику, однако для граждан именно она была главной.
Наиболее выдающийся пример конструирования легитимирующей повести об основании города дает нам аугсбургская хронистика. Аугсбургский клирик Кюхлин в своей рифмованной хронике135 поставил этот швабский имперский город в один ряд с многочисленными итальянскими городами, которые тоже возводили свою историю к троянцам. Одновременно это означало притязание на особо высокое достоинство города, основывающееся на его древнем происхождении. Такая модель конструирования прошлого не являлась спецификой городов: аристократические семьи тоже заказывали себе генеалогии, уходившие как можно дальше вглубь веков. В городской хронистике мы видим примеры соединения этой дворянской традиции с бюргерским самосознанием. Сочетание двух различных сословных моделей памяти мы обнаруживаем и у аугсбургского купца и патриция Петера Эгена, заказавшего Кюхлину перевод на немецкий язык хроники, латинский оригинал которой передал клирику художник Йорг Амман – тот, кто в 1433 г. расписал дом Эгена историческими картинами на тему основания Аугсбурга. Около 100 лет спустя художник Йорг Брой Старший расписал готическую ратушу картинами по эскизам, выполненным гуманистом Конрадом Пойтингером. Ни ратуша, ни эскизы до нас не дошли, но мы знаем из письма Пойтингера к императору Максимилиану I, что на фасаде предполагалось изобразить императоров и королей из династии Габсбургов, причем включая испанскую ветвь136.
Сигизмунд Майстерлин заявил, что хроника Кюхлина содержит множество ошибок, и представил собственную историю основания Аугсбурга, в которой троянцы не фигурировали: город, по мнению автора, основали на самом деле винделики – племя, жившее в тех местах, причем так давно, что он уже существовал на момент нападения амазонок137. Тем самым утверждалось, что Аугсбург, во-первых, не имеет отношения к бесчестным беженцам-троянцам138, а во-вторых – еще старше, чем в версии Кюхлина, то есть даже старше Рима. Хроника Майстерлина имела оглушительный и длительный успех: вплоть до XVIII в. мы встречаем аугсбургские хроники, повторяющие эту версию основания города139. Это означало прежде всего притязание Аугсбурга на право стоять в одном ряду со славнейшими из городов мира, хотя об античном прошлом и невозможно было рассказать ничего конкретного. Те, кто читали хроники, практически не имели возможности проверять утверждения авторов, поэтому оставалось принимать их на веру, и чем дольше была история рецепции этих текстов, тем более правдоподобной казалась данная версия основания города, освященная вековой хроникальной традицией. Единственным, кто отказался использовать хронику Майстерлина, был патриций Маркус Вельзер, один из поздних гуманистов140, тогда как остальные авторы и в его время, и десятилетия спустя по-прежнему доверяли ей полностью.
Сильно отличается от Аугсбурга случай Берна: мы вообще не обнаруживаем никаких следов используемой для легитимации его статусных притязаний повести об основании города, построенной на поисках максимально древних истоков. Здесь закрепилась версия, что город был основан в 1191 г. герцогом Берхтольдом V Церингеном, и такое происхождение рассматривалось, по всей видимости, как достаточно престижное: хронист Юстингер, задавший стандарт для многих других бернских хроник, явно не считал зазорным начать историю города с конца XII столетия, а не с античных времен. Как и в Аугсбурге, другие авторы воспроизводили эту версию вплоть до XVIII в.141
Анонимный автор, написавший в конце XVIII в. «Достойные памяти рассказы из истории Гельвеции, главным образом и в особенности о возведении, расширении и росте казавшегося с начала небольшим княжеского городишки Берна», указывал в своем панегирике на то, что Церингены были посланы Богом и, в отличие от Ромула, свой замысел основать город они реализовали, никого не убивая. Еще неоднократно на протяжении хроники подчеркивается инициатива и прямое вмешательство Всевышнего не только в основание, но и в дальнейшие судьбы Берна: автор уже не был связан с гуманистической традицией и рассматривал Рим не столько как пример для подражания, сколько как негативный образец, от которого автор отталкивается в построении «своей» модели.
Другой вариант престижной истории основания Берна, не связанной с древностью, мы видим у пастора Иоганна Рудольфа Грунера, который в 1732 г. опубликовал хронику142, где сконструировал родство между Церингенами и Габсбургами, поднимая статус имперского города за счет этой династической связи с императорами Священной Римской империи германской нации.
В зальцбургских хрониках встречается модель, похожая на аугсбургскую: в них основание города приписывалось Цезарю, однако упоминалась и жившая там до прихода римлян местная народность нориков, чем подчеркивалось наличие доримской истории если не у самого города, то у местности, в которой он был построен.
В случае Фройденштадта, основанного, как всем было известно, в XVI в., не было способа сконструировать для города убедительную легенду об античном прошлом, но намек на некую связь с ним все же был сделан в хронике анонимного автора, который не упустил возможности упомянуть о древности соседних с Фройденштадтом городов и о населении, непрерывно обитавшем в Шварцвальде с доисторических времен143.
В хронистике Тюбингена конкурировали несколько версий его происхождения. Большинство сочинений начинаются XII в., когда этот город основал пфальцграф; в одной хронике важнейшим событием, положившим фактическое начало тюбингенской истории, названо основание августинского монастыря в 1262 г.144, и только в анонимном историческом сочинении XVII в. рассказывается о некоем графе Работоне, якобы служившем императору Титу при завоевании Иерусалима и в благодарность получившем от него около 80 г. земли в районе Тюбингена145. Судя по малой распространенности этой версии, восторженного приема она не встретила.



