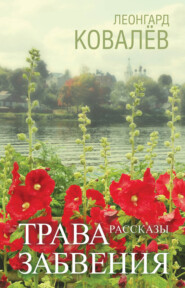
Полная версия:
Трава забвения. Рассказы
Хроника минувших дней
Бегство от войны, долгое странствие наше протяжёнными путями России закончилось за Волгой, в Удмуртии, в краю, о котором мы ничего не знали, которому и сами были неизвестны и ненужны. Продолжительность переезда означала не только километры дорог, но и время – мы ехали много дней – через грады и веси, с остановками и задержками, пропуская воинские эшелоны, порой оказываясь при таких скоплениях народов, какие оставили след лишь в библейских временах – может быть, с тем же отчаянием, засевшим в мозгу беженцев: достать съестное, не потерять детей и родных, выбраться к местам, где преследующая угроза утратит смертоносную реальность.
В городе, конечно, самом лучшем для тех, кто жили в нём, мы не обрели того, что оставили дома. Крепкие, сильные люди его были суровы, немногословны. Мы говорили на том же языке, понимали друг друга, но всё было не то, не такое.
Дома обывателей скрывались за высоким, непроницаемым забором. Вдоль улиц вместо тополей и берёз росли сосны. Солнце как будто так же светило с безоблачного неба, было жарко, но и в самой природе, с той её особенностью, что зной и прохлада были постоянно близки, не было для нас дружеского привета.
Суров и немногословен был хозяин, в доме которого поселились мы вместе с нашими земляками. Собственную мать, незаметную и неслышную старушку содержал он в строгости, в полном подчинении своей воле. Была она ещё и слепая, но в доме выполняла всякую работу – мыла полы, стирала. Сам же был хмур, чёрен, бородат и, видимо, в крепкой силе. Ни жены, ни детей не было. Каков был род занятий его, мы не знали.
Просторный дом в несколько комнат с высокими потолками, нештукатуреный по бревенчатым стенам, ещё достраивался. Отведённая нам комната, где не было никакой мебели, до самого потолка была оклеена то ли афишами, то ли плакатами. Спали мы на голом полу.
Двор, огороженный крепким забором, был тщательно прибран, подметён. Конечно же, были сарай, огород.
С семьёй Романовых мы держались вместе с самого отъезда. Их было пятеро: мать, Надежда Николаевна, бабушка, трое детей, старший из которых, Олег, был моим сверстником. Надежда Николаевна, невысокая, худощавая, энергичная в том, чтобы устроиться как-то с семьёй, выглядела по-современному, но скромно – в одежде, в причёске.
Утром и мать, и она уходили искать работу. Мы с Игорем, Олег и Дима Романовы проводили время на улице. Младшая их девочка оставалась с бабушкой.
Улица, густо заросшая невысокой травой, с протоптанными пешеходными дорожками вдоль заборов, была пустынна, движения по ней не было никакого. Мальчишки и девчонки, которые жили здесь, занятые своими играми, к нам отнеслись безразлично.
Питались мы в столовой, недалеко от вокзала. Там, при большом наплыве народа, были шум, гам, толчея, торопливое возбуждение – все куда-то спешили, опаздывали. За каждым, кто уже поглощал добытый обед, стоял следующий, дожидаясь своей очереди.
Наваристый гороховый суп, которым кормили, был необыкновенно питательным и вкусным. Было ли что-нибудь на второе, не помню. Игорь, которому только что исполнилось четыре года, возымел вдруг невероятный аппетит и никак не мог наесться. Заканчивая свою порцию, он заглядывал в наши тарелки, жалобно выпрашивая добавки. Мы оставляли ему от своего, и он съедал всё подчистую.
В те дни между прочими событиями мы посмотрели спектакль «Бедность не порок». Помещение было, видимо, клубное, спектакль дневной, наверное, для детей, но это был настоящий театр, от которого осталось странное по тем дням воспоминание. Запомнились содержание пьесы, имена действующих лиц – Гордей и Любим Торцовы. Запомнилась и песня, которую пел один из персонажей:
Одна гора высока,А другая низка.Одна милка далека,А другая близко.Надежда Николаевна вскоре нашла работу по своей специальности – она была ветеринарный врач. Они перебирались на казённую квартиру.
В тот же день, утром, к дому подкатил тарантас, которым правила наша мать; мы уезжали в деревню, где она получила работу. Там же нам предстояло и жить.
Тарантас был искусно сплетённой из ивовых прутьев корзиной с сиденьями внутри неё для ездоков и для кучера – на облучке. Вещей с нами, кроме маленького чемодана, не было никаких. Мать с Игорем устроились внутри корзины, я взобрался на козлы, взял вожжи, и мы поехали.
Для меня это был опыт, о каком я не мог даже мечтать, хотя и место, на котором я восседал, и вожжи в руках имели чисто декоративное свойство. Стройная вороная лошадка, которую звали Дочка, прекрасно знала дорогу и не нуждалась ни в каком руководстве. Она была умница, но с характером, который вскоре и показала.
Было ещё только утро – на небе ни облачка, солнце, поднимаясь, припекало. Выехав из города, тарантас покатил полями, потом через лес, потом опять полем.
В лесу, с обеих сторон к дороге надвинулись ели и пихты, мрачные и тоже какие-то чужие. Сильнее и глубже потянуло суровым очарованием этого края, чувством неведомого, равнодушного к нам.
В поле дорога пошла среди высокой ржи. Небо у горизонта опускалось к неподвижным лесам. Там оно сияло и нежилось, покрытое дымкой подступавшего зноя. Солнце обнимало раскинувшиеся просторы, по которым уходили вдаль дикая глушь, тишина. Нигде не было ни души и никаких признаков человека. Никто нам не встретился и никто нас не обогнал. Дочка трусила легонько, под колёсами тарантаса шуршали травы, среди посевов мелькали ромашки, васильки. Нам открывалось новое и чудесное, и всё острее думалось о покинутом доме.
Ехали долго. Дорога подошла к оврагу, на дне которого вдоль колеи лежало толстое бревно. Внезапно Дочка, шедшая до этого лёгкой рысцой, рванула так, что я едва удержался на козлах. Видимо, решив наказать нахального мальчишку, осмелившегося управлять ею, она повела тарантас левыми колёсами прямо на бревно. Тарантас накренился настолько, что, казалось, сейчас опрокинется. Испугавшись, я выкатился на дорогу.
Тарантас взлетел на другую сторону оврага и тотчас скрылся за стенами ржи. Обернувшись, мать едва успела что-то крикнуть, чего я не разобрал и от страха, что остался один в неведомом краю, громко заголосил.
Кричать было бесполезно, да и не нужно. Весь в слезах, выбравшись из оврага, я увидел перед собой деревню. На пологой местности находились вразброс какие-то строения, там же был домик, у крыльца которого с навесом спокойно стояла Дочка с тарантасом. Когда я подошёл, из домика вышли мужчина и женщина, а с ними мать с Игорем.
Это и было то место, где нам предстояло жить.
Деревню составляли две слободы – верхняя и нижняя. Верхняя забиралась на гору, значительно возвышаясь над прудом и речкой, протекавшей через него. Нижняя выстроилась за рекой, на равнинной стороне. А вокруг, перемежаясь, лежали поля и леса.
Всего в деревне было двадцать восемь дворов. Она была русская, однако, как и все в округе русские деревни, имела удмуртское название – Кочекшур.
Мы поселились в верхней слободе, в самом её конце, у околицы, на самом высоком месте, в избе аккуратной, чистой, имевшей традиционные горницу с кухней, русскую печь, полати, на которых мы потом спали.
Крестьянские подворья в деревне строились так, что они образовывали наглухо замкнутый порядок необходимых в хозяйстве строений. С улицы недоступный для постороннего мир замыкали высокие и широкие ворота. В ряду с воротами была и калитка, тоже глухая и прочная. Другие ворота с противоположной от улицы стороны открывались на приусадебные угодья. Подворье наших хозяев ещё не имело такой завершённости. Не было забора, ворот, открытый двор зарастал спорышем, безлепестковой ромашкой, был огорожен только пряслами, вдоль которых густо и высоко поднималась лебеда.
Хозяином нашим оказался старик лет шестидесяти или побольше, лохматый, с кудлатой бородой, ёрник, матерщинщик, с бегущей мелкими шажками походкой. Хозяйка – может, чуть моложе, с пучком седых волос на затылке, плотная, в крепком теле, основательная, несуетная, пристально занятая своими хозяйством и домом. Ершистый старик внешне и характером сильно напоминал деда Каширина, каким он показан в известном кинофильме, с той разницей, что здесь он беспрекословно повиновался властной супружнице. Работал конюхом. Прибегая к обеду своими шажками, с порога начинал лепить: «Тит твою мать, тит твою мать», рассыпая одновременно позади себя: тр-тр-тр… Старуха строго останавливала его: «Стювайся!» И он подчинялся.
В день нашего приезда у хозяев гостил внук Юра, прибывший к ним из города, года на четыре старше меня – серьёзный, рассудительный, умелый. Прежде чем что-нибудь сделать, соображал, прикидывал, не торопясь, не спеша. Он тут же предложил мне пойти ловить рыбу, отыскал в лабазе подходящее удилище, достал конский волос, сплёл леску, взял грузило, крючок, поплавок, всё это приладил как надо. Для себя удочка у него уже была, и мы пошли – сначала вниз по деревне, потом влево, крутым спуском к пруду, на плотину.
Там уже сидели двое или трое таких же мальчишек. Все они знали Юру – здесь он был свой. Поздоровавшись с теми, кто оказался ближе, он выбрал место, распустил леску, насадил червяка, которых предварительно накопал на плотине, – сначала для моей удочки, потом для своей, закинул их, укрепил на берегу, рассказал, как рыба клюёт, в какой момент нужно тащить.
Был ещё только полдень. Солнце палило, а ожидаемой поклёвки не было. Наконец, Юра поймал рыбёшку величиной с ладонь. У меня за всё это время так и не клюнуло. Дольше сидеть было бесполезно. Свернув удочки, мы вернулись домой.
Печь у хозяйки топилась, пойманную рыбку она зажарила и отдала нам с Игорем. Ещё она дала нам по клинышку шаньги.
Юра позвал меня в лес, и мы пошли на лесную порубку через ржаное поле, которое начиналось сразу за околицей.
За нами увязался Колька, который давно вертелся здесь – его разбирало любопытство о появившихся чужаках. Он тоже был старше года на четыре и тут же стал учить меня неприличному лексикону, в чём я был полный профан. Он предлагал мне какое-нибудь выраженьице, и я, не понимая смысла, повторял его как попугай. Это здорово веселило Кольку, от смеха он хватался за животик. Я оказался способным учеником, он сразу же обучил меня всему, что знал сам, и от того, как это у меня получалось, со смехом катался по земле.
Не участвуя в этом спектакле, не обращая внимания на Кольку, серьёзным видом Юра показывал, что не одобряет его. Колькино общество с самого начала было неприятно и неугодно ему. Он рассчитывал провести время со мной, рассказывал, где нужно искать землянику и малину, объяснял, как делать серу, то есть жвачку, из еловой смолы – как выбрать смолу, как варить её – довести до кипения, процедить потом через тряпицу или сито.
Когда мы вернулись, Колька тут же рассказал моей матери, как я обучался у него нехорошим словам. К большому удовольствию его, я получил от матери выговор. Но дело было сделано. С тех пор я не забыл преподанного Колькой урока. Позже деревенские наставники научили меня ещё и нескольким выражениям по-удмуртски и по-татарски – тоже, конечно, неприличным.
Времени было за полдень, но всё ещё жарко, когда из города прибыл младший сын хозяев Василий – Васька, в местном произношении Васькя – спокойный, добродушный малый, большой и сильный, и тоже оказал мне своё расположение. Для меня он был «дяденька», хотя лет ему было всего восемнадцать. Он позвал меня на пруд – проверить морды.
Втроём мы спустились по крутой горе – Василий, Юра и я. Плоскодонка была примкнута цепью к коряге. Василий открыл замок, мы сели в лодку, он направил её к верховью пруда, густо поросшему рогозом. Первый раз в лодке мне было немного боязно не чувствовать под собой устойчивой почвы.
Морды стояли в том месте, где начинались заросли рогоза. Василий достал сначала одну, разгрузил её, потом другую. В обеих оказалось много подростковых окуней, а также по два крупных окуня и по два больших леща в каждой, и был ещё один толстый, золотистый линь.
Вода в пруду была проточная, чистая. Чернея своими шишками, рогозы стеной покрывали всё верховье пруда. Здесь их звали чернопалки.
По склону горы, если смотреть снизу, от пруда, левее тропы, росло десятка полтора старых высоких лип. С правой стороны, в сотне шагов, по крутогорью, опускавшемуся к речке, начинался лес, который составляли ели и пихты.
И Василий, и Юра оставили самое доброе впечатление. Василий в тот же день навсегда покинул родную деревню. Уехал и Юра. Так прошёл первый мой день на чужой стороне.
Мать стала работать бухгалтером в артели «Бондарь», строения и хозяйство которой располагались за прудом, на низкой стороне. Артель занималась изготовлением бочек, огромных чанов, шаек, используемых в бане, а также больших рогож. Было два как бы цеха. В длинном низком строении – то есть это была изба в несколько связей – размещались бондари со своим инструментом и верстаками. В другом, отдельном, доме стояли ткацкие станки, на которых женщины ткали из мочала рогожи. Большой высокий сарай, с распахнутыми воротами, до самой крыши был забит тюками мочала.
На территории артели находились ещё столовая, конюшня, стоял также домик, в одной половине которого была контора, в другой жила сторожиха с двумя сыновьями. В те дни артель гудела, как улей. Бондарный цех закрывался. Весь состав бондарей уходил на войну, оставался только ткацкий цех. Производился расчёт, увольнение, артель была захвачена многоголосым броженьем.
В артельской столовой мы опять ели вкусный гороховый суп. Кажется, здесь Игорь мог наконец наесться досыта. Но так продолжалось недолго. Все эти шум, многолюдство, толчея очень скоро прекратились, артель обезлюдела, закрылась и столовая.
Всех пригодных для армии мужчин быстро призвали. В последний, может быть, раз некоторые из них собрались на улице возле нашей избы, окружив Орлика, могучего красавца, – каурого жеребца-тяжеловоза с роскошной золотистой гривой. Обсуждали стати и достоинства его, сожалели, что забирают в армию. Через каких-то несколько дней не только Орлика, но и тех, кто сочувствовал ему, не осталось в деревне.
Для нас началась новая жизнь, содержанием которой стала забота о хлебе насущном.
До начала занятий в школе мы с Игорем осваивали незнакомое пространство. А вскоре у меня появилась обязанность: я должен был обеспечивать домашнюю потребность в топливе.
На той же порубке, в полутора километрах от деревни, кроме сучьев, было покинуто много остаточного леса: вершинные части деревьев, обрубки, обрезки брёвен, часто довольно крупные. Я набирал длинные жерди – по несколько в каждую подмышку – и волоком притаскивал это домой. Вначале брал всё подряд и что полегче. Но то, что было полегче, тронутое тленом, не имело нужного качества. Хозяйка велела такого не брать. Дрова должны были обеспечивать полноценную топку печи.
Вечером, когда мать приходила с работы, мы отправлялись опять же на порубку, и там собирали грибы, землянику, малину. У каждого была посудина для сбора ягод. Игорю доставалась маленькая мисочка. Чаще всего найденные ягоды он клал в рот. Но вот на донышке у него оказывалось шесть или десять ягодок, большую часть которых ему подкладывала мать. Собрать больше не получалось, он не мог отвести глаз от ягод, которые уже были у него. Не справившись с искушением, он клал одну из них в рот. Через минуту говорил, думая, что его никто не слышит: «Ещё одну ягодку съем – и больше не буду». Так повторялось ещё и ещё, после чего в мисочке оставалось две или три ягодки, и его огорчало, что их у него так немного.
Мать показывала, какие грибы можно собирать, какие нельзя. У неё набиралось больше и грибов, и ягод, но всё равно этого было мало.
На порубке подрастали ёлки и ёлочки, возле пней возвышались навалы срубленных сучьев, сросшиеся с ними огромные муравейники, заросли малинника и крапивы.
Порубка занимала обширное пространство, за нею начинался настоящий дикий лес. Мы делали такие походы ежедневно, пока позволяла погода.
Спали мы на полатях. Они были устроены над входом из сеней в горницу и протягивались от печи до стены. До самой стены дощатый настил не доходил, и бывало, Игорь во сне откатывался на край и падал отсюда вниз. К счастью, внизу в этом месте стояла кровать нашего старика, и падение с небольшой высоты было неопасно.
Всё-таки Игорь постоянно попадал в какие-то переделки. На него наскакивал соседский петух, просто не давал прохода, будто специально караулил, когда он выйдет на улицу. Ещё у соседей было несколько ульев, пчёлы во множестве летали в этом месте. Кажется, они не трогали никого, но непременно норовили ужалить Игоря. Было у него элегантное по тому времени пальтишко – с отворотами, с хлястиком, с накладными карманами и красивыми пуговицами, приятного серого цвета. Была ещё шапочка – вязаная, с помпоном, серенькая, с зелёной крапинкой. Из дома он уходил в них, а днём, когда становилось жарко, где-то их оставлял. Вскоре эти пальто и шляпу знала вся деревня, их постоянно находили в разных местах и возвращали нам. И он всё время ныл от голода.
Хозяева наши были достаточные крестьяне. У них было всё, что давала земля, на которой они трудились. К нам они отнеслись как к незваным и непрошеным пришельцам. Они рассуждали так: «Зачем нужно было уезжать от своего дома и своей земли? Ну и что, что война, что немцы?! Всё равно вы должны были оставаться там, у себя». Они знали цену тяжёлому крестьянскому труду. К тому же насилие, которое совершила и продолжала совершать над ними советская власть, лежало на них ярмом несвободы. Мы устраивались хотя при минимальной, но всё-таки поддержке государства, и ещё поэтому не вызывали их сочувствия.
В полдень старичок прибегал на обед. К столу подавалась баранья похлёбка, отварная баранина. Ели вдвоём из одной миски деревянными ложками. Потом была парёнка – тушёные свёкла, репа, морковь. Были пироги со свёклой, с морковью и шаньги. Молоко было топлёное и свежее, были и простокваша, и ряженка. Были яйца. Были всегда хлебный квас и свой ситный хлеб.
Обедали в кухне. Прежде чем приняться за трапезу, творили молитву – стоя перед иконой, висевшей над столом, в углу. Ели неспешно, обстоятельно, не разговаривая во время еды.
В то время как старик и старуха с аппетитом поглощали все эти яства, мы с Игорем, словно голодные собачонки, стояли напротив, прислонясь к стенке, испытывая мучительные позывы в пустом желудке от запахов, шедших со стола, не в силах отвести глаз, смотрели им в рот. Хозяева не обращали на нас внимания.
Поев и напившись квасу, перекрестившись перед иконой, старик валился на кровать, начиная храпеть ещё не коснувшись подушки. Хозяйка убирала посуду, собирала объедки для скотины. Мы настырно продолжали стоять. Наконец, прибрав всё на столе, на загнетке, она отрезала нам по клинышку шаньги.
Поспав часок, старик вскакивал и бежал на конюшню.
Иногда в нашем с Игорем присутствии он высказывал свои политические убеждения: Сталин – дурак. Дитер – умница, молодец, он разгонит колхозы. Старуха строго пресекала столь безрассудный оппортунизм:
– Стювайся!
Понятно, что Дитер в произношении старика – это Гитлер. Он так надеялся на него, лелея мечту избавиться от ненавистного колхоза.
Колька не забывал обо мне. Во время нашего бегства от войны на одной из станций я нашёл резиновую противогазную маску. Кольке эта маска не давала покоя. Зачем она была нужна ему? Просто так. Ему хотелось, чтобы она была у него, как вещь, какой в деревне никто не имел. Конечно, из неё можно было сделать отличные рогатки, но нет, он просто хотел ею владеть. И он не переставал увиваться возле меня, предлагая различные варианты для обмена. Одурачить меня было нетрудно, и вскоре маска оказалась у него. Получив взамен пару крючков, грузило, поплавок, я начал прилаживаться к рыбной ловле. Колька усовершенствовал удочку, которую наладил мне Юра, отрегулировал грузило, поплавок, нацепил другой крючок. Я стал ходить с нею на пруд, но рыба у меня не ловилась.
Первого сентября я пошёл в школу. Это был большой, по деревенским понятиям, дом – новый и ещё недостроенный. Снаружи и внутри он был ещё свежеструганной древесины, стоял в середине нашей верхней слободы. Ученики от первого до четвёртого класса, все вместе, сидели в одной комнате, в которой занимали только половину её. Учитель был один – невысокого роста, лет, может быть, сорока пяти, постоянно раздражённый, оттого, видимо, что презирал учеников и свою миссию. В школу ходили дети из соседних деревень, в том числе из удмуртской деревни. Дети-удмурты отличались от русских. Девочки носили длинные платья или сарафаны из тканей домашнего производства с цветастым орнаментом. Они были тихие, скромные, старательные. Мальчики внешне не отличались от русских, но тоже были скромные и старательные в учёбе. Им она давалась труднее, так как они недостаточно владели русским языком. Пребывавший в дурном настроении учитель, проходя рядами парт, заглядывал в тетрадки учеников. Останавливаясь возле одного, он обращал внимание, что тот пишет куцым огрызком карандаша.
– Что это такое?! – вопрошал он патетически, поднимая над головой ничтожный сей инструмент, и заключал: – Заткни его в задницу!
После чего швырял карандаш куда-нибудь в угол.
В следующий раз, останавливаясь возле того же ученика, обращался к нему с тем же пафосом:
– Что ты тут намарал?
Затем вырывал из тетрадки листок, комкал его и выдавал следующий педагогический совет:
– Возьми, подотрёшь задницу!
Скоро, однако, учитель исчез. Говорили, будто он украл колхозный баян, патефон, что-то ещё. Больше о нём мы ничего не узнали.
Сразу после этого школу перевели в избу, которая была школой прежде, – из-за того, что новое недостроенное помещение трудно было бы содержать в зимнее время в тепле.
Старая школа была простой избой, посреди которой стояла русская печь. Изба делилась на две половины с партами и классной доской на каждой из них. Я стал учиться во втором классе.
Здесь было уже две учительницы. Они вели занятия по очереди. Когда занималась одна, другая в это время спала или просто лежала на печи – вставать было некуда. Ученикам было слышно, как она ворочалась, вздыхала, зевала. Учительница, проводившая урок, позанимавшись на одной половине, переходила на другую. Открытый проём между ними позволял видеть и слышать всё, что происходило и там, и там.
Дома в это время хозяева соорудили большую плоскую поверхность, на которой разложили мокрую мешковину или рядно, равномерно рассыпав на нём рожь. Зерно через некоторое время набухло, потемнело и проросло. Из любопытства я попробовал его – оно было сладковатым. Потом зерно было убрано, а в подполье начался какой-то процесс. Улучив минуту, когда дома не было никого, я спустился туда и увидел некое сооружение, огонёк, стеклянные трубки. С конца одной из них в какую-то посудину капала бесцветная жидкость.
Старик стал чаще появляться дома и, когда не было старухи, кидал в пространство:
– Погляжу-ко, как сохраняется картошка.
Сам брал с поставца рюмку и спускался в подпол. Через некоторое время вылезал оттуда, крякал удовлетворённо, произносил с чувством:
– Эх, хороша кумышка!
С приходом холодов в избе поставили железную буржуйку. Топливо для неё доставлял я. На порубке набирал толстых смолистых сучьев, которых там было сколько угодно. Точно так же брал две охапки под мышки и всё это тащил домой – сначала по мёрзлой земле, потом по снегу, каждый раз всё более глубокому. В лабазе рубил эти сучья, заносил в избу, к печке, и после весь вечер их жгли, наслаждаясь пышущим от неё жаром. Наступали часы блаженства, умиротворенности, мирных бесед. Разговаривали мать, хозяйка и Вера – ещё одна квартирантка, лет двадцати пяти, родом из другой деревни, работавшая в артели ткачихой. Хозяйка, нащепав загодя лучины, при свете её сучила пряжу или вязала носки, варежки. Лучина вставлялась в железный зажим, горящие угольки от неё падали в посудину с водой. Старик не участвовал в разговорах. Используя кочедык и колодку, в отсветах, падавших от печки, плёл из лыка лапти. Было интересно наблюдать, как он это делал.
К утру избу выдувало так, что вода в ведре покрывалась льдом, который оставался плавать там до самого вечера, пока не начинали снова топить буржуйку.
Но вот заболел наш старик. Плохо ему стало. Он перестал ходить на конюшню, лежал в постели. Как раз в это время по ветеринарным делам в деревню заехала Надежда Николаевна. Она осмотрела старика и твёрдо велела ему не употреблять острой пищи – квас, редьку, лук, хрен.
На другой день, когда дома не было никого, – мы с Игорем не в счёт, – больной встал с постели, налил миску квасу, натёр редьки, хрену, накрошил луку. Старика можно понять – ему этого очень хотелось. В тот же день с ним случился ужасный припадок. Его захватили страшные корчи, сознание выключилось, он изгибался и дёргался, как бесноватый, храпел, изо рта шла пена.
Хозяйка, мать и я бросились к нему. Он едва не оказался на полу. Мы навалились на него. Некоторое время он бился под нами. Потом внезапно и сразу затих, выпрямился, захрапел каким-то нечеловеческим храпом и, быстро перестав храпеть, провалился в глубокий сон. Недолго поспав, очнулся, ничего не помня о произошедшем.



