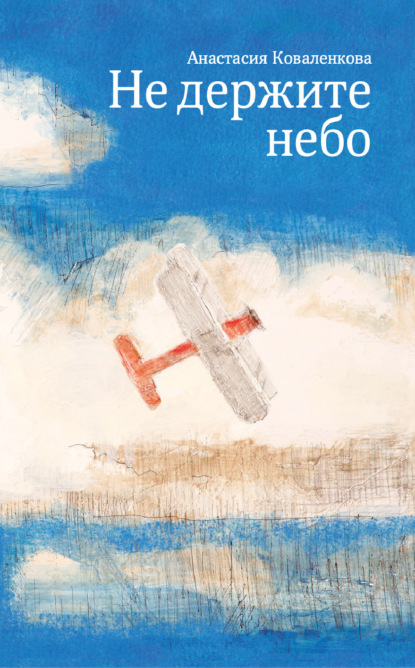
Полная версия:
Не держите небо
И ещё одну вещь скажу, по секрету: я очень хочу сделать то, чего хочет от меня Бог. Я уверена, что это делание и есть моё счастье.
Думаю, что Он хочет от меня не успеха и комфорта. Бог – Он мудрый. Он видит наши настоящие цели. Увидеть бы их и нам, с Божьей помощью.
Рождественский подарок
В нынешнее Рождество я получила чудесный подарок – вот какой.
Пришёл к нам тем вечером наш уже взрослый сын Александр. Хотя двадцать пять лет ещё и взрослостью не назовёшь…
И пошли мы вместе в храм.
Сашка всегда старается Рождество с нами встретить.
Вот стою я на службе, а сын – чуть сзади.
И я по привычке думаю: «Не устал ли он?..»
Обернулась – а Сашка смотрит в алтарь таким… внутренним взглядом.
Потом заметил меня и кивнул: мол, «не волнуйся, я рядом, тут».
И это было совершенно наоборот, чем раньше!
Были Рождества, годы и годы, когда я собой «подпирала» его – он утыкался затылком в мои ноги, потом в живот, потом в плечо… он рос.
Потом он уже стоял рядом, но всё равно я поддерживала.
А теперь он поддерживал меня, и кивок его был такой мужской, взрослый…
Потом я вышла, а он ещё остался.
Я ждала перед храмом, замёрзла, всё ждала его.
Наконец Сашка вышел, спустился по ступеням и подошёл ко мне.
Я, заметив в его руках свечку, спросила: «Домой возьмёшь, к празднику?»
А он промолчал, он словно не услышал.
И в его лице я увидала, что он ещё там, он не со мной сейчас, он с Ним.
Сколько лет я вела сына к Нему! Вот, привела.
Это Счастье. Это Чудо. Это Подарок!
Мне кажется, самый дорогой подарок для мамы.
Язык мой
Я обратила внимание, что в текстах людей стали исчезать или путаться буквы.
Нет, это не ошибки, это – опечатки.
Происходит такое в разных соцсетях, у самых разных моих друзей.
Обычное дело – спешил человек, ошибся.
Я сама так часто ошибалась. Заметишь – поправишь.
Другие, думаю, тоже так делали. Раньше.
Теперь люди перестают исправлять помарки.
Мелочь? Нет.
Люди стали так спешить, что неохота исправлять, «поймут же…».
Нет!
Люди, не ленитесь возвращаться, исправлять!
Не ленитесь беречь слово, текст, язык.
Вы опаздываете? А раньше успевали?
А вы знаете, когда текст пестрит опечатками – он выглядит как болтовня, несерьёзная и неважная даже для автора. Мусор из слов, а не мысль, высказанная словом.
Если мы махнём рукой на то, как пишем, мы опоздаем в главном – мы потеряем культуру письма. И вернуть её не удастся, после того как мы скатимся с достойного уровня – не удастся.
Это всё равно что перестать мыться, причёсываться… Из бомжей люди редко возвращаются.
Это та же чистота. Только чистота языка. Не хочу я превращаться в языкового бомжа.
Пока что у нас есть прибежище – русский язык. Наш дом.
Не буду я в нём сорить. Иначе дом русского языка превратится в трущобу.
Никакая спешка не позволит мне разбросать мусор по моему дому. И по моему письму – никакая спешка не позволит! Это же язык мой.
Родной мой русский язык.
Ерунда
Проснулась я от того, что кто-то снаружи избы по брёвнам лазает, коготками цепляет. Звенящий такой звук, по еловым толстенным брёвнам… Лежала, думала: белка или дятел? Кошки мои тоже, все втроём, уселись на кровать – смотрят на стену в недоумении. Из любопытства выглянула я в форточку. Вся извернулась… Белка это! Паклю из избы дерёт, уж полный рот набрала, утепляется, значит… Надо будет ей на лавочку ком пакли положить, каждую зиму такую дань плачу. Я-то уже утеплилась, у меня ковры уложены.
А кругом прилёг первый снег. Значит, пора два раза в день топить. Воду уже из ручья ношу, насосы сняли. Бочки в садах слили, все вверх дном стоят. Замёрзла последняя редька на огороде… Соседка-подруга перебралась вчера в город, у неё сени холодные, не сдюжит дом в мороз… Муж ещё когда приедет…
Не загрустить бы.
Что там на сегодня? Печь растоплю, зверям корм задам, лапник пойду нарублю – жасмин обмотать, остальное всё уж укрыто. И… корзину буду плести! Вот только почту гляну.
А связи нет! Вообще. Деньги кончились? Нет. Серёжу, мужа, набираю, узнать, что это. А – сбой в телефоне, не достать Серёжу.
Ни с кем нет связи, никакой. Тааааааккк! Ужас.
Собралась. Сконцентрировалась. Сгруппировалась.
Главная беда в том, что про корзину я не всё ещё знаю. Я же только учусь плести корзины, уроки беру в интернете. А у меня там такое хитрое плетение на боковине, в три лозы, – вот его не помню… А если образец здесь, в деревне, найти? Оделась, пошла по соседним, пустым уже домам. Мы же все знаем, где у кого ключи. В третьем доме, в дровянике, нашла разломанную корзину с хворостом. Как раз те самые три лозы по низу! Обхватив корзину, помчалась с холма вниз, с добычей!
А дома телефон звонит-разрывается! И интернет попискивает сообщениями! И печь потрескивает дровами!
И настала у меня полная радость.
Так весело!
А ведь это Бог мне настроение наладил, ловко так.
Сижу вот, в три лозы плету и думаю: «Это сколько же у меня всякого счастья есть… Всего лишь связь вернули – а как здорово стало! Неужели, чтобы мы радовались, надо отнять, за спину спрятать, а потом: “Ладно, я пошутил” – и вернуть? Бедный Бог, сколько же у Него с нами возни!»
Сижу теперь, плету, а сама счастье своё пересчитываю в уме. Чтобы Его ерундой не беспокоить. Надо мне самой уметь счастье ценить.
Когда душа спала
Ах, как грустно было, когда моя душа спала.
Раньше, пока она трудилась, появлялись картины, повести, рассказы.
А потом, зимой, она устала и уснула.
А я-то и не заметила, как уснула моя душа. Я-то порисовала ещё – да всё не то. И пописала. Но и писание, как замерзающий ручеёк – пожурчал и стих…
А что я без души могу?
Я ей: «Давай порисуем». Молчит.
Села я за мольберт – да как-то всё никак…
Так кто же тогда я? Я-то не спала. Я-то хотела рисовать, писать!
Или это только гордыня моя хотела? Боязнь, что, если замолчу, забудут? Ах, как нехорошо!
Мне бы её, душу, не терзать, мне бы её не трясти.
Так и трясти я тогда устала.
И смирилась.
Сама – словно спала.
Только замечала, что не смеюсь, не слышу птиц, не вижу цвет.
Думала: «Неужели навсегда?»
А ведь дело в том, что душа моя устроена так же, как и всё в Божьем мире.
Есть у неё свои времена года: весна, когда она расцветает, как сад, всё видит, слышит, замечает, свистит синицей! Лето – когда душа трудится, плодоносит. И плоды моя душа приносит хорошие.
Но есть у неё и зима, чтобы отдохнуть, как сад под белым снегом. И не стоило так пугаться! Весна обязательно придёт, если Бога не гневить.
И вот, когда моя душа проснулась… Как же замирало сердце от первой улыбки, скользнувшей по лицу, от музыки, зазвучавшей вновь. Как боялась я спугнуть её, мою душу.
Она ещё только просыпалась, а я робко звала её: «Давай, моя хорошая. Я так грустила, пока у нас была зима. Радость-душа моя, ведь лето будет?»
«Будет», – улыбалась душа.
Пишу сейчас, а на глазах – слёзы. И хорошо!
Что же делать нам, когда у души зима?
Наверное, молиться и учиться. Ждать и верить. А душа – она не подведёт. Проснётся вовремя. Тут уж Бог в помощь.
Крест на нас есть
Один умный человек, говоря о единстве русских людей в старой, дореволюционной, России, привёл слова коллекционера Третьякова. Как-то Третьяков сказал кучеру, заломившему высокую цену за извоз: «Креста на тебе нет! Побойся Бога». И тот, смутившись, отступился, снизил цену. А рассказано это было к тому, что, мол, у людей в России был раньше единый человеческий код. А теперь его вроде как и нет…
Услышав это, я сперва расстроилась. Но, подумав, повспоминав, утешилась. Потому что много было в моей жизни ситуаций, когда оказывалось, что есть у нас у всех общее, неразменное, душевное. Одну историю о таком «узнавании» хочу я вам рассказать.
Тому уж лет семь, как ехала я в Переславль из деревни. И ехала я совсем без голоса, просто немая. Операцию мне тогда сделали на связках, говорить не могла. И страховка на машину из-за этого была просрочена. Правда, всего на один день. Не успела я ещё, только из больницы вышла. Её и ехала оформлять.
И вот, как назло, останавливает меня лейтенант ГАИ при въезде в город, на посту контрольном. Останавливает и начинает по всей строгости: документы, страховка, штраф, штраф-стоянка…
Он конечно же прав. Но ведь я действительно еле живая после операции, да и оформлю я эту самую страховку уже через час. Обратно поеду – ему же и предъявлю. И всё это – про больницу, операцию, страховку – я в блокноте своём пишу и ему показываю. Мол, горло резали, немая, страховку сейчас оформлю, отпустите с миром, товарищ милиционер…
– Что же мне с вами делать?! – вскрикивает он, уже в отчаянии. – Я у вас машину арестую, пешком будете молчать!
А я ему в ответ в блокнотике пишу:
«Эх. Креста на вас нет! Побойтесь Бога».
Посмотрел он в блокнот мой. Нахмурился. Потом в глаза мне посмотрел. Махнул рукой в сторону дороги, мол, езжай… Повернулся и ушёл.
Отпустил он меня. Отпустил с миром, как говорится.
Так что есть у русских людей единый код человечий. Как был, так и есть.
А я потом ехала и радовалась. Радовалась потому, что человек мне добрый встретился. Такой же, как тот кучер, что вёз Третьякова. Божий человек, на котором крест есть.
Но всё же, возвращаясь, я сама у того поста остановилась, опустила стекло.
Размахиваю бумагой, на которой страховка отпечатана. А лейтенант издалека улыбается, палочкой своей машет и кричит: «Езжайте уже!»
Громко так кричит. А я ведь не глухая, я немая пока. Смешно мне стало. Так и уехала, улыбаясь.
Целесобранность
Сижу я и отбираю фотографии этой зимы.
Вот попадается мне январское вечернее фото: поле заснеженное, кусты мутные вдали, за ними закат плывёт. Задумчивое фото, хорошее.
Только резкости не хватает. Не чётко как-то…
Попробовала добавить в фотошопе резкость.
Теперь всё видно, расплывчатость ушла. Так вот, чётко, – целесообразнее.
И ещё часть поля можно бы обрезать – зачем его так много? Подрезала я поле.
Всё, казалось бы, теперь и чётко, и целесообразно.
Только настроение из той фотографии пропало. Не стало там плывущего заката, грусти январского вечера.
Так что, поразмыслив, не стала я фотографию править. Ради образа оставила и нечёткость, и поле бесконечное.
А потом. задумалась я о целесообразностях в жизни. И о том, как мы нашу жизнь правим.
И вот что оказалось.
Мы с вами в нашей жизни столько наубирали во имя целесообразности! А похоже, что зря.
Мы, например, уничтожили процесс заваривания чая – электрочайниками, пакетиками.
Раньше-то: ошпаривали чайник, заварка, кипяток, ожидание, вкус крепкого душистого чая. Конечно, так, как нынче, – быстрее, целесообразнее.
Мы слушание музыки превратили в сопутствующее дело – иду-слушаю, еду-слушаю.
И только на концерте мы слушаем по-настоящему. Но часто ли мы ходим на концерты?
Мы разговор по телефону с человеком превратили в сопутствующий чему угодно!
Раньше мы садились у телефона и сосредотачивались на том человеке, на разговоре.
Правда, так, на ходу, время экономится. Целесообразнее так…
Мама читала ребёнку книжку. Но дел много, целесообразнее поставить аудиокнигу.
Но нет касания плечами над книгой, нет вечерней лампы теперь, нет её голоса, нет их близости. Есть целесообразность.
Из переписки исчезают знаки препинания – целесообразно. В магазине – самообслуживание, целесообразно. И вы не говорите с продавщицей, не спрашиваете, не общаетесь. Они теперь даже сумму не называют – всё видно на табло. Целесообразно.
А все эти мелочи, которые мы убрали из жизни, они – как та нерезкость пейзажа. В них нет видимой пользы. Но они создают Образ бытия нашего.
Не всякая целесообразность хороша. Подчас она – прямой враг образа.
Образ – это очень тайное, сокровенное. Его легко разрушить.
Может, и сам образ превращается теперь в «пользу дела», в «практичность», в «целесообразность»?
Страшно мне от такого.
«А чего делать-то?» – спросите вы.
Конечно же не стоит отказываться от удобного. Может, просто стоит задуматься: для чего та целесообразность?
Время она экономит? А куда мы его используем? И хорошо ли нам, покойно ли на душе?
Мне кажется, нам надо останавливаться.
Чтобы оглядываться по сторонам, всматриваться в дерево, в даль улицы, в небо над головой.
Возвращаться к задумчивой погружённости в одно дело. В процесс этого делания, в покой самого процесса.
Иногда я завариваю чай в чайнике. Сяду порой и, не отвлекаясь, поговорю с другом по телефону. Замру на месте, слушая музыку. Я иду по улице и смотрю на прохожих. Заговариваю с кассиршей в магазине. Вроде бы просто, а на душе у меня становится светло.
И, прежде чем убрать что-то из своей жизни, внимательно думаю. Ведь кто знает, какая мелочь, незаметность наполняет её сутью.
Давно ли вы сидели, глядя в никуда, перед собой, замечтавшись?
Сказка о душе и разуме
Вот была у нас эпидемия, страшно было, беда кругом.
И каждый вечер засыпала я, горячо молясь о том, чтобы были мы здоровы, чтобы миновала меня и моих близких болезнь.
А с чем я просыпалась? С исполненной просьбой. Мы были здоровы!
Но разве светилась на моём лице покойная радость? Ходила я по земле с улыбкой?
Ничего подобного, к сожалению, не было. Я уже дальше бежала, думать забыв о счастье и благодарности Богу.
А ведь как хотела!
Но даже спасибо не сказала…
«Так ведь новые задачи теперь, в новом дне, – оправдывалась я мысленно, – ты давай не отлынивай, душа, проси у Бога вот этого теперь».
Думая о тех днях, почувствовала я: что-то мне это напоминает…
И вдруг поняла – разыгрывается внутри меня «Сказка о рыбаке и рыбке»!
Вот посудите сами: мозг мой – та самая сварливая Старуха. А душа – Старик, мягкий, покорный.
Оно, конечно, верно, что не пошли Старуха Старика за корытом, так бы и сидели с разбитым.
Но она, Старуха-то, ничуть не радовалась ни корыту, ни дому. Она всё требовала да требовала! И сама мрачно жила, и Старика замучила, и Рыбку извела своей неблагодарностью да капризами.
Рыбку понять можно: сколько та сделала, чтобы порадовать, а всё им неймётся!
Осерчала Рыбка. Если нет разницы, если всё мало, так пусть и сидят с корытом!
Так вот о чём Пушкин писал…
И прямо всё про меня.
Мозг мой покоя не знает, он всё гоняет и гоняет душу – это подай, то попроси.
И душа, покорный Старик, понуро ходит, ноет Богу: «Дай, дай!»
Сколько же можно Божье терпение испытывать?
Что же делать-то?
Думаю, стоило бы Старику-душе немного охолонуть Старуху-мозг:
– Опомнись, окстись. Давай корыту порадуемся! Давай пойдём, вместе Рыбку поблагодарим! Задумайся, Старуха. Ты же умеешь соображать, Старуха- мозг. Ты сказку вспомни.
Кажется мне, что вот такое воспитание мозга очень пошло бы на пользу.
И радости бы мне добавило. И покоя.
Пусть мозг придумывает свои затеи, он на то и нужен. Но и душа, не должна душа быть такой рохлей у него на посылках.
Сама-то Старуха-мозг доступа к Рыбке не имеет, заметьте!
Так вот пусть Старик-душа, это сознавая, хоть чуточку себя уважает, пусть управляет ситуацией.
Знаете, если мы научимся помнить о наших горячих желаниях и мольбах, если научимся спокойнее идти к новым затеям, успевать радоваться подаркам и обязательно благодарить за них – тогда мы изменим ту горькую пьесу, что разыгрывается внутри нас.
Так что ты, Настя, иди-ка посмотри на вечернюю зорьку, постой и порадуйся.
Порадуйся тому, что твою просьбу сегодняшнюю услышали и исполнили. Хлеба насущного просила в молитве? Долги с тебя не спрашивать просила? Сбылась твоя молитва в этом дне.
Так вот и иди, смотри на зорьку. И гляди у меня, пока смотришь, ни о каких затеях не думай! Смотри да радуйся.
Да спасибо не забудь сказать, слышишь?
Сквозь трудное
Когда приходят трудности, многие из нас говорят: «Наша жизнь обвалилась».
В такое уныние впала и я, когда пришли ко мне трудности. Жизнь семьи пошатнулась, работа посыпалась, здоровье моё захромало…
Но надо было выкарабкиваться.
А чтобы вылезти из болота, нужно ухватиться за что-то, опора нужна.
Вот тогда я, ища опоры, решила: буду думать иначе. Буду вглядываться в свою жизнь и искать надёжное, главное. И нашла я его тогда.
Я поняла, что жизнь собралась в тяжёлые дни вокруг самого важного – моей семьи, моего дела. Это – главное.
Я тогда, в дни беды, остро почувствовала всех, кто мне по-настоящему дорог.
А осознав это, я стала просто служить всему родному. Да, именно служить, не раздумывая, не глядя вдаль.
Это и спасло меня от уныния.
А ещё с тех самых пор я научилась одному хорошему навыку – внятно чувствовать время. То время, которое у меня есть сегодня, только сегодня – чтобы позаботиться о человеке, потрудиться над картиной, помолиться за любимых.
Есть мой «Сей Час» – и я теперь стала гораздо собранней и спокойнее.
Я вообще-то просто в пути по моей жизни. И знаю, что делать.
С тех пор у меня, поверьте, всё как-то собралось.
Важен встречный человек, важен саженец цветка, важен взгляд в вечернее небо, да, и он тоже, ведь небо это для меня, сегодня.
И Пост, который пришёл, – он про это всё. Он – мой инструмент, чтобы ещё больше почувствовать жизнь. Ещё точнее подойти к своему единственному назначению в ней.
Выходит, не зря для меня случились те беды. Вот так, непростым путём Бог привёл меня ко мне самой, к моему смыслу. Да, сквозь испытания. Сквозь страх. Но пришла я к важному.
И собираю теперь все силы моего слова к вам, чтобы отдать вам эту замечательную возможность: в тяжкие дни живите вашу жизнь среди людей, забудьте страх, доверьтесь Богу.
Когда скорбь приходит, не надо смотреть в себя, а лучше посмотреть внимательно в жизнь, в неё вглядеться. Там всегда кто-то ждёт нашего участия. Если просто позаботиться – о человеке, о собаке, о маленьком цветке – со всем участием…
Вот тогда таинственным образом просветлеет и небо, и душа.
Я-прилагательное
Случился у меня недавно разговор: о судьбах нынешних, о людях.
И вот одна сердитая заграничная дама в ответ на мои размышления сказала: «Вы, русские, – вообще имя прилагательное».
Тогда я ничего не стала отвечать. Разве с сердитым человеком стоит спорить?
Но потом задумалась над этими странными словами.
Ну да, верно. У Франции – француз, у Италии – итальянец… А у России – русский. Это ведь и впрямь – имя прилагательное.
Но ничего обидного я в этом не вижу. Потому что это – правда.
Мы и впрямь прилагательные к нашей родине.
А просто мы никак без страны. Куда мы без существительного, без нашего существа?
Сама я – только прилагательное к России.
Я прилагаюсь к её красоте, и к её беде тоже. Всей собой прилагаюсь.
Я прилагаюсь к русскому заснеженному полю, к разговору мужиков у заглохшего трактора, к шуму рыночной площади Переславля-Залесского, к надвременному взгляду церковных куполов – глядят они поверх голов наших вдаль, на Россию.
Я – прилагательное счастливое. Если бы не было у меня моего главного существительного, моей страны, кого бы любила, кого рисовала, о ком бы писала свои слова?
Не всегда я ясно чувствую своё приложение к России. Живёшь себе внутри, копошишься муравьём…
А сейчас это очень внятно. Потому что я, так же как все-все люди страны, чувствую свою связь: мне самой больно от бед страны. И новые заботы – они у нас у всех одинаковые. Это заботы России.
И рюкзак жизни у каждого стал не лёгким сейчас.
Но он у всех прилагательных такой теперь.
От этого бодро мне нести рюкзак житейский. Значит, я – уж точно часть России, раз чувствую плечами её вес. Очень серьёзное это чувство.
Потому что мы, прилагательные, Россию несём.
Во времени несём, вперёд.
Вместе нести – не обидно, а радостно.
Привет мой вам – дорогие прилагательные к любимому существительному!
Сила слова
Когда мне говорят «Доброго!» или «Приятного», главное ощущение – мне неприятно. Задумалась…
Думала долго. Думала я о своём отношении к слову новому, к новым выражениям.
Из-за своей профессии писателя я очень чутка к звучанию слова. К тому, что оно несёт, какое чувство рождает.
Вот появилось новое слово «прикольно». Когда девушка, глядя на живопись Левитана, говорила «прикольно», мне сразу становилось жаль девушку. Но потом «прикольно» заняло своё место: приносит мне ученик задание, оно сделано решительно, лихо, вроде неплохо… но поверхностно. И я говорю: «Ну что, прикольно!» И он понимает. Слово встало на место.
Я радуюсь новым точным словам, люблю яркие вульгаризмы, выразительную неправильность губернского говора. Я гостеприимна к слову.
Что же с теми-то двумя не так? А вот что.
Когда человек говорит «Доброго дня», «Доброе утро», он проявляет ко мне внимание, он желает мне добра, он тратит себя на чувство, пусть из вежливости, пусть немного, но тратит.
Когда мне говорят «Доброго!» – мне говорят о том, что пожелать положено, но тратить на меня два слова НЕ БУДУТ. Мне это прямо передают. «Сама додумай, чего там доброго».
И это – главное чувство, исходящее от такого пожелания.
Если вам жалко сказать человеку два хороших слова – промолчите!
Или скажите одно полноценное «Здравствуйте».
За ним, за «Здравствуйте», нет вывески «два слова – больно жирно». Но не убивайте посылаемое слово. Вы же всю суть хорошего чувства УБИВАЕТЕ! Что вам, жалко лишнее слово мне сказать?
Как не стоит одевать любую модную одежду только потому, что все одели, так же, мне кажется, не надо говорить слов, потому что так все стали говорить. Давайте будем самобытными. Давайте будем слушать нутро слова, пожалуйста.
Пожелайте мне: «Приятного аппетита», скажите мне: «Доброго дня». Или промолчите, прошу вас. Промолчав, вы хотя бы не унизите себя.
Внимательно слушайте то, что вы говорите человеку. Не бросайте слова.
Слова обладают огромной силой. Она ваша, эта сила, не забывайте. Прошу вас.
Вверх по склону
Как часто так бывает: провалишься в житейскую яму, возишься, стараешься, никак не выберешься. Отчаешься совсем. И просишь у Бога – выведи! Помоги!
А Бог – где Он? Не знаю. Будто оставил меня…
Страшна такая богооставленность! Кажется, ну вот и всё: сама не смогу, бросил Он меня, пропадаю.
Чем это заканчивается – пока не скажу. А расскажу вам историю из детства.
Было мне лет пять. Мой папа учил меня на лыжах ходить. Получалось конечно же плохо. Я устала, замёрзла, палки болтались, руки внутри варежек сжала в кулачки, от холода…
Мы съехали в глубокую яму, теперь я знаю, он это сделал специально. Он учил.
Папа пошёл вверх по склону, «ёлочкой». «Давай!» – сказал он, обернувшись, уже на гребне.
И я полезла вверх. Я не умела. Я съезжала обратно, падала. Я заплакала.
Папа объяснял, как надо – «ёлочкой». Показывал, но ко мне не спускался. Я была в отчаянии. Упала в снег, запуталась в лыжах да палках, разрыдалась.
Отец поглядел на меня строгим взглядом, сказал: «Я пошёл». И исчез. Вот тогда настал уже полный ужас. Вылетела я из этой ямы пулей! Вмиг научилась «ёлочкой»!
А папа, оказывается, стоял в двух шагах, просто снизу не было видно. Он понимал, что ему надо отойти, чтобы я – следом за ним. Конечно, знал, что метнусь вверх, чтобы нагнать.
И, увидев его, я была счастлива. Счастлива тому, что он меня не бросил, тому, что смогла сама вылезти! Всё я поняла тогда. И отец мой, помню, так улыбался… Как счастливый отец.
А вот теперь вернусь к нашим житейским, взрослым ямам.
Кажется мне, нет, не кажется, а уверена: Бог поступает точно так же.
Никогда не бросает Он нас. А любя, заботясь, хочет научить – чтобы сами справлялись, чтобы возрастали в жизни. Подскажет раз, другой. Видит: всё ноем, всё никак, – отойдёт. Но только чуть-чуть, только чтобы мы себя проявили, научились, а не на Нём висли. Есть в том большой смысл.
Выскочив из такой ямы, испуганные, но всё же сами, чувствуем мы, что Бог теперь рядом. И очень важное осознаём: ничуть Он нас не бросал, просто поверил, что сможем. А мы – сумели. Сумели, заметьте, бросившись именно в сторону Бога, вверх по склону. Так же как я тогда, маленькая, взлетела из ямки – вслед за отцом.



