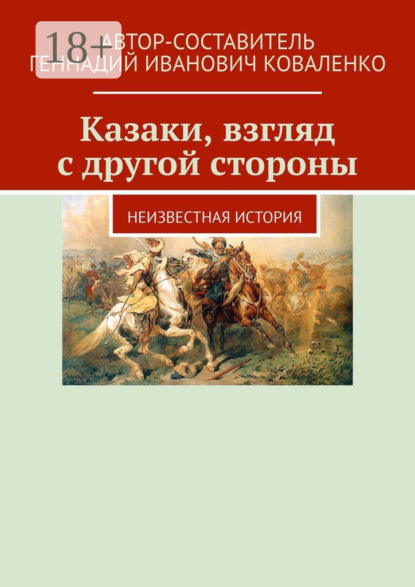
Полная версия:
Казаки, взгляд с другой стороны. Неизвестная история
8 февраля Т. Роу в депеше государственному секретарю Джорджу Кэлверту и в посольских «известиях» доносил, что Осман II желал лично возглавить поход на восставшего эмира Сайды в тогдашней Сирии (ныне Ливане), «но, учитывая неопределенность польских дел и что пришлось бы оставить на казаков свой имперский город, и по другим имевшимся здесь соображениям он изменил свое намерение и приказал идти сухопутному войску и морскому флоту». Одновременно «для предотвращения самого худшего приведены в порядок 12 небольших галер и обыкновенное множество фрегатов (имеются в виду фыркаты, небольшие гребные суда), чтобы охранять Черное море от вторжения казаков».
В июле 1622 года Т. Роу отправил депешу в Лондон Д. Кэлверту, где без подробностей сообщал о вторжении татар в Польшу, а казаков на Черное море и захвате ими «большой добычи». Некоторые меры Турции по улучшению ее отношений с Польшей, указывал посол, «я думаю, не обеспечат спокойствия… И вот в чем трудность: турки и поляки в любом случае заключили бы мир, но они не знают, что делать с этими разбойниками, которые теперь никого не боятся».
Т. Роу еще 5 апреля 1623 года сообщал лорду Д. Кэлверту: «Чтобы отомстить им (татарам), казаки вышли в Черное море и захватили трофеи, и атаковали город…». По словам посла, «в этот день Совет пришел в ярость» и поспешил разослать повеления для предотвращения дальнейших казачьих вторжений. «Не знаю, – замечал Т. Роу, – будет ли разорван мир с Польшей или, если ни одна из сторон не перейдет к открытой войне, они будут кивать на своих вольных вассалов, чтобы вредить друг другу, что со временем навлечет на обоих еще большие неприятности».
Согласно сообщения посольства Т. Роу от 15 мая 1624 года, видно, что «поспешить» на помощь Кафе паша смог весьма относительно: «При… отправлении… галер, как только они вошли в Черное море, они встретились с небольшим кармиссалом (карамюрселем), сообщившим, что впереди них было только 40 лодок казаков; янычары взбунтовались и заставили генерала (адмирала) вернуться в канал и требовать больше сил…». Ибрахим-паша «получил выговор и был снабжен большим числом людей, и таким образом отправился вновь».
В «Известиях из Константинополя», составленных посольством Т. Роу 10 (20) июля 1624 года, сказано: «9 этого месяца от 70 до 80 лодок казаков, по 50 человек на каждой, гребцов и воинов, воспользовавшись удобным случаем, когда капитан-паша отправился в Татарию, вошли в Босфор приблизительно на рассвете…».
Из письма Т. Роу Д. Кэлверту от 25 июля 1624 года: «Я, – говорилось в письме, – вынужден прибегнуть здесь в некоторых местах к шифру, потому что в момент последнего смятения, когда прибыли наши обычные пакеты, они неожиданно вызвали подозрение беспокойного чиновника и были доставлены к каймакаму; было широко распространено лживое обвинение в том, что некоторые из них будто бы обнаруживают сведения касательно казаков, и сиюминутная оскорбительная ярость подталкивала вскрыть их в Государственном Диване, или Совете, который обещал успокоить толки; но через несколько дней мудростью визира они доставлены нам невредимыми». «Следующей почтой, – писал Т. Роу, – я пошлю копии вашей чести и дам его величеству отчет о деле пиратов, в коем сделано что возможно; новый паша послан с новыми и горячими приказами, каковые, я уверен, выполнит, чтобы мы могли торговать в будущем без опасения от них (казаков)».
Из депеши английского посла Т. Роу принцу Уэльскому, датированной 18 сентября 1624 года. «Солдаты на галерах в устье Босфора, – говорится в документе, – взбунтовались против своих начальников, забрасывая их камнями и отказываясь снова идти в море…» Властям удалось успокоить бунтовщиков, только согласившись «с условием, что они остаются там, где находятся, и несут стражу до тех пор, пока зимняя погода не прогонит казаков, и в этот день их (солдат) возвращают в город». Очевидно, речь шла о дне Касыма, считавшемся в Турции началом зимы и приходившемся, как мы указывали, на 26 октября.
«Казаки, – сообщало английское посольство в „Известиях из Константинополя“ от 1 октября, – снова появились поблизости от устья Босфора со 150 фрегатами (на этот раз „фрегатами“ – фыркатами названы чайки и, возможно, струги) и взяли много добычи на греческом берегу, настолько, что все берега Черного моря стали безлюдными».
Как сообщали «Известия о турецких делах», составленные посольством Т. Роу 12 июня, 1624 года, «обеспокоенность казачье-крымским союзом и враждебными планами относительно Кафы заставила капудан-пашу стянуть к Стамбулу «все галеры Архипелага, которых было разных типов 60», и отдать им приказ выйти в Черное море «со всеми силами, которые может собрать этот город». Английское посольство, не слишком веря в результативность предстоявших действий, отмечало, что «всякое можно ожидать от его (капудан-паши. – В.К.) плана, и успех этого сомнителен».
В известиях посольства Т. Роу от 30 июля 1624 года рассказано, что капудан-паша отправился с флотом в сторону Босфора «и на следующее утро, на рассвете и в густом тумане, столкнулся с флотом казаков… и так смешался с ними, что не мог ни воспользоваться своим строем из-за опасности для своих собственных галер, ни уклониться от них (казаков) без боя. Таким образом вовлеченные в бой, казаки неистово начали атаку…».
Из депеши посла Т. Роу Э. Конвею от 6 мая рассказывается о том, что казаки «готовы с 700 фрегатами напасть на какое-нибудь место возле этого города (Стамбула); снаряжение предоставлено им от короля (Польши) и польский капитан на каждую лодку. Они угрожают сражаться с армадой великого синьора и поклялись окружить и взять приступом адмиральскую галеру. Все селения на Босфоре до ворот Константинополя дрожат, и город не без страха, ослабевши некими предсказаниями и астрологами, которые предрекают великое несчастье от северного народа».
Из донесения от 2 июня 1627 г. Т. Роу в Лондон: «В то время как все морские силы были заняты (действиями против казаков), … Архипелаг был оставлен без защиты, и шесть галер, как мы полагаем, великого герцога (Тосканского) пришли к устью Геллеспонта и взяли один галион и много меньших кораблей каирского флота… сообщают о добыче в миллионы. Эта тревога заставила великого синьора послать на Черное море, и немедленно из армады были выделены 12 галер и посланы искать христиан, которые, я не сомневаюсь, ушли со своими богатствами».
ЮХАН ВИДЕКИНД ИСТОРИЯ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ (Русско-Шведской)
«История десятилетней шведско-московитской войны» была написана королевским историографом Швеции Юханом Видекиндом (1618—1678) и дважды издана в Стокгольме на шведском (1671) и латинском (1672) языках. Автор этого труда, поощряемый канцлером и одним из регентов при малолетнем наследнике престола Карле (с 1672 г. – Карл XI) Магнусом Габриэлем Делагарди, взялся описать отношения между Швецией, Речью Посполитой и Россией в начале XVII столетия. Наиболее подробный рассказ приходится на 1608—1617 гг., однако Видекинд совершает краткие экскурсы и в предшествующие времена, начиная более или менее связное изложение с 1558г. Заканчивается книга событиями 1621 г. Нам будет интересно узнать, что писал королевский историограф о казаках.
Местожительство, происхождение, нравы казаков и устройство казачьего войска.
Частые упоминания в этой истории о казаках, которые и вообще широко известны по свету, побуждают меня привести несколько наблюдений об их местожительстве, происхождении, нравах и управлении.
Местожительство. Есть две реки, начинающиеся в Московии и текущие по широкому пространству. Это – Борисфен и Танаис (Днепр и Дон). Последний вытекает из громадного Иванова озера в Рязанском княжестве, оттуда несется к югу через татарские пустыни и впадает тремя устьями в Меотидское болото выше Борисфена. Татары называют его Доном, то есть священным, так как он изобилует рыбой и течет по весьма плодородным местам. Живущие по его берегам называются донскими казаками. Некоторые представляют эту реку вдвое большей, чем Истр (Дунай. Старый историк-писатель). Геродот выводит ее истоки из неведомо каких болот. Мела (Опытный географ Мела) относит их к Рифейским горам. То же делает (делает известный древний поэт) Лукан в 3 книге:
…«Сверху Рифеев
Катится вниз Танаис. Берега его разные носят
Света частей имена: для Европы и Азии служит
Гранью предельною он, рассекая страну посредине».
У поэтов он именуется: снежный, скифский, суровый и морозный, гордый, холодный, двурогий (ледяной рекой, жестокой, холодной, вздувающейся, ужасной и немилостивой, двурогой, скифской).
Борисфен – местопребывание казаков. Другая река, Борисфен, являющийся в значительной части границей королевства Польского и Великого княжества Литовского, собственно и есть местопребывание (гнездо могущественных) казаков. Ныне он называется Непр и Нестр или Днепр. Беря начало в Смоленском княжестве, на болотистой равнине, близ села (маленького села) Днепреско, отстоящего от города Москвы на 30 миль, река делает небольшой изгиб на запад, проходит у городов Смоленска и Киева, в России, затем направляется на юг (север) и, пройдя еще 300 миль, в земле перекопских татар и Черкасов, недалеко от Каффы, впадает в Понт Эвксинский. Об этой реке много говорит Геродот в 4 книге, кое-что также Марцеллин в 18 главе 22 книги. Затем, она только тогда принимает имя Борисфен, когда в Днепр (Днепра, когда в нее) впадает Березина, см. Левенклау. Верхняя часть реки относится к Литве, а в нижней части смыкаются владения разных народов: помимо русских московитского и польского подданства, к ним примыкают некоторые турецкие округа; небольшим пространством отделены от них и валахи. Король польский Стефан думал по этой реке установить связь между Востоком и Балтийским морем и добился бы своего, если бы не сопротивление дикого населения ее берегов. Ведь в этом стечении множества далеко не мирных народов едва ли можно рассчитывать на мирные отношения, содействующие общению племен. Безграничные степные пространства из-за опасности разбоев большею частью остаются необработанными (особенно потому, что кругом лежат безграничные пустыни, где живет много бродяг и грабителей).
Там-то, в местах, чудесно укрепленных природой, где Борисфен поворачивает к своему устью (Днепр имеет первые истоки), казаки устроили себе жилища. Когда-то старые географы называли те места Катадупами, а ныне роксоланы на своем наречии зовут их Порогами.
Происхождение имени. Казаки названы так татарами, а у татар это имя означает разбойников, то есть то же, что у венгров называют мартолоссами, а у итальянцев – бандитами. Название «запорожские» происходит, я думаю, от слова «табор», означающее лагерь, умело защищенный выстроенными в ряды возами, наподобие весьма сильного укрепления: в таком лагере они находят при нападении врагов последнее убежище.
Происхождение народа. Сюда в старину стекались самые разные люди, больше всего из России, привыкшие жить грабежом добычи у врагов, а также (также многочисленные) запятнанные бесчестием дворяне из Великой и Малой (Верхней и Нижней) Польши, люди, изгнанные за преступления из Франции, Италии и Испании. Все они обязаны следовать греческой религии и держаться русского языка, отказавшись от знатности рода, принять плебейские прозвища, отбросить всякую культурность и жить мужицкой (крестьянской) жизнью. Пока военная дисциплина у них не испортилась, они делились на роты и полки, жили в воздержании и послушании, непрерывно предаваясь войнам (Нет); необходимую пищу добывали охотой и рыболовством и больше всего уважали умеренность. Далекие от городской обстановки, чуждые невоздержанности и необузданности, они мало заботились или вовсе не думали об имуществе, гоняясь больше за оружием. В очаковских степях они часто победоносно сражались с татарами (татарами, да и турка с его галерами они не оставляют в покое, часто нападая на них в море).
Устройство. Войско они содержат в несколько тысяч человек, соблюдают военные чины, величайший почет оказывают ветеранам и заслуженным воинам. Потому-то короли польские и давали им определенные права и свободы, оказывали милости, а часто и покровительство.
С течением времени старые нравы начали портиться: воинов перестали ценить за доблесть и заслуги, а стали стекаться туда отовсюду из русских областей преступники, которых закон изгнал с родины, и бездельники, бежавшие от земледельческой работы или ремесла. Эта непригодная к войне масса могла быть только обузой ветеранам (Их масса все более и более портилась, так что из них не вышло ничего, кроме разнузданных, беспутных и негодных шаек; между ними росли раздоры, и, таким образом, сами они были виноваты в том, что перестали быть силой). Умеренность, дисциплина, послушание сменились своеволием, как обнаружилось больше всего в нынешней войне, где они под предводительством Наливайки грабили все, что попадалось; они дерзнули даже избрать главнокомандующего (Они стали избирать себе разных предводителей, как ныне Наливайко, отправились разбойничать) и в настоящих боях сражались с Речью Посполитой. Она старалась не только силой, но и разными хитростями их укротить, но безуспешно. На войне они грабят, а в мирное время рассылают своих колонистов (расселяют своих людей) по селам и городам, выходя из подчинения господам (всецело подчинялись своим командирам). Немногие ветераны живут на старых местах у Борисфена, остальные же, разбогатев от добычи, думают только о себе, жиреют в праздности, заводят ссоры и часто на польских сеймах держат сторону тех, кто, исповедуя (исповедует) греческую веру, презирает западную. Поляки часто стараются привлечь их жалованьем, высылают против турок, которым те весьма враждебны, поскольку считают себя христианами, чтобы разузнать, что делается в их земле.
Управление. Высшее управление у них принадлежит начальнику войска, который в качестве знака власти носит посох, сделанный из тростника. Как избирается он не голосованием, а криками и бросанием шапок в пользу кандидата, так и низлагается с той же легкостью. Однако, пока он у власти, ему принадлежит право жизни и смерти. Второе по достоинству место занимают посол и военные советники, называемые есаулы. За ними идут, как ближайшие по почету начальники лагеря, орудий, полков, 12 сотников и общественный нотарий, который обыкновенно записывает подати и расходы и пишет письма. Когда случаются трудные (важные, касающиеся общего блага) дела, сам предводитель созывает людей на собрание, и они слушают его в глубоком молчании, а затем наперебой кричат (никто не в силах услышать ни слова из-за начинающегося шума и говора). Они очень опытны в морской войне; плавают в лодках (небольших лодках), у которых по бокам для устойчивости в морском волнении приделаны тростниковые настилы, и с большой быстротой часто захватывают турецкие корабли (они так умело пользуются ими, что часто наносят урон туркам с их судами и берут над ними верх).
Большинство из них (казаков) вооружены не копьями (панцирями), а мушкетами и составляют крепкую пехоту на службе у поляков. Свои грамоты с привилегиями, военные орудия, турецкую добычу, всякое воинское снаряжение и королевские знамена, часто даруемые им Речью Посполитой за храбрые действия в знак верховенства (и регалии), они хранят в каком-то городе Киевского воеводства.
Эти люди при смутном положении дел в Московии служили то полякам, то москам, то Димитрию и даже шведам – где было выгоднее, и, конечно, оказали весьма сильное влияние на происшедшую впоследствии перемену (происшедшее впоследствии избрание великого князя).
Заруцкий родился в Тарнополе, затем был похищен татарами во время их вторжения в Россию и уведен на Таврический полуостров, откуда бежал к донским казакам, которые живут по берегам реки Дона, или Танаиса, являющейся границей между Европой и Азией и впадающей в Меотийское озеро. Казаки сделали его своим полковником и под его командой пришли на помощь Димитрию и Ружинскому, когда те осадили Москву. Там он сражался очень храбро и снискал себе большое благоволение их обоих. После того как Димитрий потерпел поражение, Заруцкий перешел на сторону польского короля и участвовал в осаде Смоленска и в бою под Клушином. Но когда он увидел, что польский полководец Жолкевский предпочел ему Ивана Салтыкова, знатного и известного среди русских человека, то с досады отправился к своему старому хозяину Димитрию, бывшему тогда в Калуге, и служил ему честно, пока тот был жив, а затем – его супруге, пока судьба не привела его к смерти, о которой было рассказано. Его казаки, желая спасти его, собрались под Ярославлем и Нижним Новгородом и хотели освободить его из тюрьмы в Муроме. Но как только новый великий князь и москвичи узнали об этом, они сейчас же отправили к этим казакам князя Бориса Лыкова, Григория Валуева и архимандрита с обещанием выдать им их жалованье, предоставить земли и поместья и все, что они потребуют. Казаки перешли на сторону великого князя. Это успокоило казаков, и они перешли на сторону москвичей, которые тотчас же намеревались послать их под Новгород под командой Ивана Куракина и князя Бориса. Но в этом году тут ничего не вышло. Однако слухи об этом дошли до господина Эверта Горна, который и поспешил в Новгород, чтобы приготовить все для оказания сопротивления…
ГИЙОМ ЛЕВАССЕР БОПЛАН (1630—1648 ГОД) Описание Украины
Среди мемуаристов первой половины ХVII ст., которые оставили записки, относящиеся к истории южной Руси, несомненно, наиболее выдающийся интерес представляет сочинение Гильома Боплана, озаглавленное им: «Описание Украины». Важность этого сочинения зависит как от личных качеств автора, так и от того положения, какое он занимал в продолжении довольно долгого времени в описываемом им крае. Благодаря обстановке, в которой Боплану довелось жить в Украине в течение 17-ти лет, он изъездил страну во всех направлениях и хорошо ознакомился с ее топографиею и этнографиею; обладая большою наблюдательностью и умением рельефно передавать виденные им черты, он в записках своих прекрасно отметил и осветил быт народа, среди которого прожил довольно долго. Главнейшее достоинство записок Боплана заключается в том, что он, как иностранец, не был лично заинтересован в казацко-шляхетской распре, разыгравшейся на его глазах, и потому передает ее мотивы совершенно объективно, без предвзятой мысли возвеличить или унизить ту или другую сторону; сверх того он обладал значительным уровнем цивилизации, заставлявшей его смотреть на описываемые факты с точки зрения гуманитарной общечеловеческой справедливости, которой не могли достичь его современники польские мемуаристы.
Гильом Левассер де Боплан был французом, родом из Нормандии. Дворянская фамилия Левассер была очень многочисленна и делилась на многие ветви, носившие отдельные названия по именам своих поместий. По всему вероятию, отец нашего мемуариста приобрел в Нормандии поместье от дворян Винефэй, называемое Боплан и положил основание новой линии «Levasseurs de Beauplan». – Гильом родился в исходе ХVІ столетия и в молодости поступил в военную службу во французском войске. В 1618 году он уже упоминается как «escuyer et lieutenant dans la place du Pont de l’Arche» в службе всесильного тогда временщика, маршала д’Анкр. Около 1630 года он был вызван польским королем Сигизмундом III в качестве опытного инженера в Польшу, где правительство поручило ему дело укрепления южных пределов Украины как от татарских набегов, так и от казацких восстаний. В течение 17 лет Боплан пребывал на Украине, занимаясь постройкою крепостей и их вооружением, а также основанием слобод, селившихся под прикрытием укреплений.
В год смерти Владислава IV Боплан оставил польскую службу и возвратился на родину; вероятно, зная хорошо край и его отношения, он предвидел наступавший конфликт с его последствиями и счел более благоразумным устраниться от участия в нем.
Возвратившись на родину, Боплан занялся приведением в порядок своих заметок и воспоминаний и составил описание края, в котором прожил столь долгое время. «Описание Украины» было уже готово и напечатано в Руане в 1650 году; с того времени издания этого сочинения повторялись несколько раз как на французском, так и в переводе на другие языки.
Описание Украины от пределов Московии до границ Трансильвании, составленное Гильомом Левассер-де-Боплан. Перевод со второго французского издания 1660 года
Тем не менее, отсюда получил начало тот благородный народ, который в настоящее время носит имя запорожских казаков; они рассеяны с давних времен в различных местностях по берегам Днепра и в смежных областях. Число их в настоящее время простирается до ста двадцати тысяч человек, привычных к войне и способных, по первому требованию, в одну неделю, собраться в поход на королевскую службу. Они часто, почти ежегодно, предпринимают опустошительные набеги и приносят большой вред туркам. Они много раз грабили Крым, населенный татарами, опустошали Анатолию, брали приступом Трапезунд и даже достигали устья Черного моря, в трех милях от Константинополя, где все предавши огню и мечу, возвращались затем домой с большой добычей и некоторым количеством рабов, обыкновенно малых детей, которых они оставляют у себя в качеств прислуги или же дарят вельможам своей страны; взрослых же они редко берут в плен, разве только в том случае, если считают их достаточно богатыми, чтобы заплатить за себя большой выкуп и освободиться. Они предпринимают свои набеги не более, как в количестве шести или десяти тысяч человек, чудесным образом переправляются через море на плохих судах собственного изделия, форму которых и конструкцию я опишу дальше.
Говоря об отваге казаков, не лишним будет сказать также о том, каковы их нравы и занятия. Известно, что среди этого народа встречаются вообще люди опытные во всех ремеслах, необходимых в человеческой жизни, как-то: плотники, умеющие строить как дома, так и суда, экипажные мастера, кузнецы, оружейники, кожевники, шорники, сапожники, бочары, портные и т. д. Они очень искусны в приготовлении селитры, которая в изобилии добывается в этом крае; из нее они делают превосходный порох; женщины у них занимаются пряжею льна и шерсти, из которых они выделывают полотна и ткани для своего употребления. Bсе они хорошо умеют возделывать землю, сеять, жать, печь хлеб, приготовлять различные сорта мяса, варить пиво, делать медь, брагу, курить водку и пр. Нет ни одного человека между ними, к какому бы полу, возрасту или состоянию он не принадлежал, который бы не старался превзойти друг друга в пьянстве и бражничестве, и нет в мире другого христианского народа, который бы усвоил так, как они, привычку не иметь заботы о завтрашнем дне.
Впрочем, справедливо, что все они способны ко всякого рода занятиям, хотя иные бывают боле искусны в одних, другие – в других ремеслах. Встречаются также между ними люди с более высоким уровнем развития, чем обыкновенная масса народа. В общем, все они достаточно развиты, хотя занимаются исключительно тем, что полезно и необходимо, преимущественно в деревенской жизни.
Плодородие почвы доставляет жителям хлеб в таком изобилии, что нередко они не знают, что с ним делать, тем более, что у них нет судоходных рек, впадающих в море, за исключением Днепра, который в 50 милях ниже Киева прегражден тринадцатью порогами, последний из которых отстоит от первого на добрых семь миль, что составляет целый день пути, как это видно на карте. Это преграда препятствует им сплавлять свой хлеб в Константинополь; отсюда происходит их леность и то, что они не хотят вовсе работать, разве только вследствие крайней необходимости, когда у них не достает средств купить то, в чем нуждаются; они предпочитают заимствовать все, что нужно для их удобства, от турок, их добрых соседей, чем самим трудиться для его приобретения. Они довольствуются немногим, лишь бы было что есть да пить.
Они исповедуют греческую веру, которую называют русскою; свято почитают праздничные дни и соблюдают посты, которые у них продолжаются в течение восьми или девяти месяцев года и состоят в воздержании от употребления мяса, каковую формальность они с упорством соблюдают, будучи убеждены, что спасение души зависит от различия пищи. Зато, мне кажется, нет в мире народа, который бы сравнялся с ними в способности пить, ибо не успеют они отрезвиться, как тотчас же принимаются пить снова. Все это, впрочем, происходит только в свободное время, но во время войны или, когда подготовляется какой-либо поход, они крайне трезвы, и грубость можно заметить только в одежде. Они смышлены и проницательны, остроумны и щедры, не стремятся сделаться богачами, но больше всего дорожат своею свободою, без которой они не могли бы жить; это главная причина, почему они столь склонны к бунтам и восстаниям против местных вельмож, лишь только почувствуют притеснения последних, так что редко проходит более 7 или 8 лет без того, чтобы они не восставали против вельмож. Впрочем, это люди вероломные и коварные, которым ни в чем нельзя доверяться. Они чрезвычайно крепкого телосложения, легко переносят холод и зной, голод и жажду; неутомимы на войне, мужественны, смелы и часто столь дерзки, что не дорожат своею жизнью. Больше всего они обнаруживают ловкости и стойкости в сражении, когда находятся в таборе, т. е. под прикрытием возов (ибо они очень метко стреляют из ружей, которые составляют их обычное оружие), и при обороне укреплений; недурны они и на море, но верхом на лошадях они не настолько искусны. Мне случалось видеть, как только 200 польских всадников обращали в бегство 2000 человек из их лучшего войска; правда и то, что под прикрытием табора сотня казаков не побоится 1000 поляков и даже большего количества татар, и если бы они были также искусны в кавалерии, как в пехоте, то, я думаю, могли бы считаться непобедимыми. Казаки высоки ростом, сильны и проворны; они любят хорошо одеваться, что особенно заметно, когда им удастся пограбить соседей; в другое же время они носят одежду довольно скромную. Они пользуются от природы прекрасным здоровьем и даже почти совсем не подвержены той эпидемической болезни, распространенной в целой Польше, которую медики называют колтуном (plica), по той причине, что волосы пораженных этой болезнью страшно спутываются и сбиваются в комок; туземцы называют ее «гостец» (Колтун известен в медицине под именем plicapolonica или же trichosisplica). Казаки редко умирают от какой-либо болезни, разве только в глубокой старости; большинство умирает во время войн, слагая головы на поле брани…



