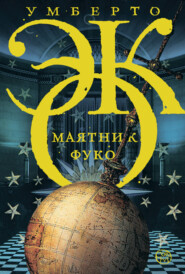
Полная версия:
Маятник Фуко
– А дураки?
– Да. Специфика дурака проявляется не в типе поведения, а в типе мышления. Дурак начинает с того, что собака домашнее животное и лает, и приходит к заключению, что коты тоже лают потому, что коты домашние… Или что все афиняне смертны, все обитатели Пирея смертны, следовательно, все обитатели Пирея афиняне.
– Что верно.
– По чистой случайности. Дурак способен прийти к правильному умозаключению, но ошибочным путем.
– А что, лучше приходить к ошибке, но рационально?
– Еще бы, а иначе зачем было делаться с таким трудом рациональными животными?
– Крупные человекообразные обезьяны произошли от низших форм жизни, люди происходят от низших форм жизни, следовательно, люди являются крупными человекообразными обезьянами.
– Для начала неплохо. Вы уже почти уверены, что есть какой-то логический сбой, но, конечно, вам надо еще поработать, чтобы понять где… Дураки коварны. Имбецилы опознаются моментально, не говорю уж о кретинах, в то время как дураки рассуждают похоже на нас с вами, не считая легкого сдвига по фазе. От дурака редактору нет спасения, чтобы от него отделаться, целой жизни мало. Дураки публикуются легко, потому что с первого наскока выглядят убедительно. Издательский редактор не стремится выявлять дураков. Если их не выявляет Академия наук, почему должен редактор?
– И в философии дураков полно. Онтологическое доказательство святого Ансельма – глупость. Бог обязан существовать потому, что я могу вообразить Его как существо, обладающее всеми совершенствами, в том числе существованием. Он перепутал существование представления с существованием сущности.
– Хотя не менее глупо опровержение Гонилона. Я вполне могу думать об острове в море, даже если этого острова нет. Второй дурак перепутал представление случайности с представлением необходимости.
– Турнир дураков.
– Вот-вот, а Господь Бог рад до безумия. Он специально сделался немыслимым, только чтобы доказать, что Ансельм и Гонилон оба дураки. Ничего себе высшая цель творения. То есть я хочу сказать, того деяния, во славу коего Господь Бог сотворил себя. Отлов дураков в космическом масштабе.
– Мы окружены дураками.
– И спасения нет. Дураки все, кроме вас и меня. Ну не обижайтесь! Кроме вас одного.
– По-моему, здесь применима теорема Гёделя.
– Не знаю, я кретин. Пилад!
– Сейчас очередь моя.
– Ладно, ваша следующая. Эпименид Критский утверждает, что все критяне лгуны. Если это говорит критянин и если он хорошо знает критян, он говорит правду.
– Еще одна глупость.
– Святой Павел, Послание к Титу. Пошли дальше. Все, кто полагает, что Эпименид – лгун, по логике должны доверять критянам, но сами критяне не доверяют критянам, следовательно, ни один обитатель Крита не думает, что Эпименид – лгун.
– Это глупость или не глупость?
– Как скажете. Я же говорю, что дурака выявить трудно. Дурак свободно может взять Нобелевку.
– Тогда дайте подумать… Некоторые из тех, кто не верит, что Господь сотворил мир в течение семи дней, не являются фундаменталистами, но некоторые фундаменталисты верят, что Господь сотворил мир в течение семи дней. Следовательно, ни один не верящий, будто Господь сотворил мир в течение семи дней, – фундаменталист. Это глупость или нет?
– Господи помилуй… Как раз тот случай. Не знаю. А вам как кажется?
– В любом случае глупость, даже если все так. Здесь нарушается основной закон силлогизмов. Нельзя выводить универсальные заключения из двух частных посылок.
– А если бы дураком оказались вы?
– Попал бы в большое и хорошее общество.
– Это верно, глупость нас окружает. И так как наши логики обратны, наша глупость – это их мудрость. Вся история логики сводится к вырабатыванию приемлемого понятия глупости. Она слишком грандиозна. Всякий крупный мыслитель – рупор глупости другого.
– Мысль как когерентная форма глупости.
– Нет. Глупость мысли есть некогерентность другой мысли.
– Глубоко. Уже два, Пилад хочет закрываться, а мы еще не дошли до сумасшедших.
– Сейчас дойдем. Сумасшедших опознавать нетрудно. Это дураки, но без свойственных дуракам навыков и приемов. Дурак умеет доказывать свои тезисы, у него есть логика, кособокая, но логика. Сумасшедшего же логика не интересует, по принципу бузины в огороде любой тезис подтверждает все остальные, зато имеется идея фикс, и все, что попадает под руку, идет в дело для ее проталкивания. Сумасшедшие узнаются по удивительной свободе от доказательств и по внезапным озарениям. Так вот, вам может это показаться странным, но раньше или позже сумасшедшие кончают тамплиерами.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
И вот, свет Бесконечного (Эйн-Софа), простираясь в качестве прямой линии в вышеупомянутой пустоте, не простерся и не распространился сразу же до самого низа, а распространялся медленно и постепенно, а именно: луч света, начав распространяться в сокровенном качестве линии, простерся, вытянулся и сделался чем-то вроде колеса, единого, круглого и замкнутого со всех сторон… – Изложение мысли рабби Ицхака бен Шломо Ашкенази Лурия (1536–1572), известного под именем-аббревиатурой Ари, родоначальника нового течения в еврейской мистике – «лурианской» каббалы, принадлежащее его ученику Хаиму Виталю («Эц Хаим» – «Древо жизни», 1, 4(древнеевр.). (Здесь и далее перевод цитат, кроме оговоренных случаев, выполнен Е. Костюкович.)
2
Пятиконечной звезды(лат.).
3
Враждебные Богу и человеку духи – мироправители, слуги дьявола(термин гностиков).
4
Нотарикон (от лат. notarius – стенограф) – истолкование слова как аббревиатуры, за каждой буквой которой скрывается другое слово; один из «трех великих путей каббалы». (Здесь и далее – прим. перев.)
5
В обратном порядке(фр.). Также название романа Ж.-К. Гюисманса (1884), герой которого скрывается от реальности в сон.
6
Сефира (мн. ч. – сефирот, «числа») – центральная идея каббалы, каждое из десяти предвечных «чисел», «имен», фаз эманации, образующих область проявлений Бога в различных его атрибутах. Совокупность десяти сефирот образует «древо жизни» (см. рисунок на стр. 10), понимаемое как динамическое единство, в котором раскрывается жизнедеятельность Бога и которое задает ритм Творения.
7
Цимцум (древнеевр. «сжатие») – ключевое понятие лурианской каббалы, процесс сокрытия, самоограничения, высвобождения некоего пространства в Боге, в пределах этого пространства творится мир.
8
Ради этой надобности милосердные ангелы часто изобретали и посылали нам, смертным, фигуры, буквы, формы и звуки и незнакомые, и поразительные, ничего согласно обычному использованию языка не означающие, но через посредство высшего нашего разума внушающие восторг к усердному исследованию умопостигаемого и к ним самим почтение и любовь(лат.).
9
Основной трактат по алхимии в форме эмблем с подписями.
10
Гематрия (от греч. «геометрия» или «гамматриа») – истолкование слова, исходя из численных значений входящих в него букв.
11
Темура (ивр. «подмена») – истолкование слова путем замены в нем букв по определенной системе, вместе с нотариконом и гематрией составляет «три великих пути каббалы».
12
«Сефер Йецира» (ивр. «Книга Творения») – еврейский текст, датируемый III–VI вв. н. э., описывающий структуру мироздания, в основе которой лежат «двадцать две элементарные буквы», «десять первозданных чисел (сефирот)» и «тридцать два пути мудрости». Исходный текст для многих разновидностей мистицизма, включая практическую каббалу.
13
«Восток», «восход»(лат.).
14
«Сла-ва»(лат.).
15
«Коллегия Братства»(лат.).
16
Иегуда Леон из пермутацийВ исходе многосложных вариацийСоставил Имя, что есть Ключ и Дверь,И Божество, и Эхо, и Дворец…(исп.)17
Любовь к року (лат.) – выражение стоиков. У Ницше – радостное принятие судьбы сверхчеловеком.
18
Исход, 3:14.
19
Данте,Rime, канцона CIV, 1. Речь идет об аллегориях Справедливости, Правды и Законности.
20
Тех женщин, что я знал, на горизонте тень:Их жесты жалобны, и взоры их печальны,Как семафоры под дождем…Блез Сандрар(фр.).21
Конец Австрии(лат.) – термин С. Цвейга, обозначающий кризис Австро-Венгерской империи накануне Первой мировой войны.
22
ДжорджоБаффо (1694–1768) – итальянский поэт.
23
«Миддлмарч» (1869–1872) – роман английской писательницы Джордж Элиот. В нем действует Джордж Казобон, автор сочинения «Ключ ко всем мифологиям».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

