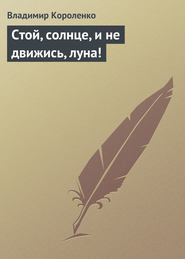 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Стой, солнце, и не движись, луна!
– Какой тебе приказ? Чай, праздник-то божий…
А он:
– Всяка душа, – говорит, – да повинуется.
– Да чему, – людишки говорят, – повиноваться-то?
А поп опять:
– Несть бо воевода, аще не от бога…
Так и не добились толку. Много после того в раскол ушло… А тут Негодяев-младший в своей газете опять статью пустил: «Времена, говорит, настали непереносные». Людишки читают и говорят: правда! «Дние, яко же нощь». И опять люди говорят: и это правда. «Людие, говорит, метутся, яко же стадо без пастыря». И это опять в аккурат. «Един, говорит, у нас пастырь – воевода милостивец, а Невинномыские, как волки лютые, смутили стадо».
– Стало быть, – говорят востоковцы, – и это правда. – Собрались толпой, давай Невинномыских, чем ни попадя, глушить. – От вас, говорят, сколько время нам никакого спокою нет. – Перебили тогда этого смирного народу без числа. – Ну, говорят, чай, теперь наш Устаревший успокоится, даст народу одышку…
Да тут, вместо отдышки, пущее горе. Когда избивали Невинномыских с товарищи, одного-то, видно, били не по-настоящему. Помереть-то он помер, да перед смертью маленько отдышался. Отдышался, поднял голову, посмотрел на народ, а народ-то уже прокинулся от лютости. Стоят кругом, смотрят, вздыхают. Потом один и говорит:
– Прости ты нас, человек добрый, Христа ради. Глядят, а он только усмехается, тихо таково да ласково.
– Бог простит, – говорит им, – бог вас простит, бедные вы люди. Вы в своей, говорит, темноте тому делу не повинные… Вот, говорит, когда вешнее солнышко над Востоковской округой взойдет, красное, говорит, вешнее, жаркое… Не будет тогда ни воеводы Устаревшего, ни Негодяевых, а Ухиво и семя переведется… тогда вы и обо мне вспомяните. Я, говорит, в сырой земле порадуюсь. А теперь, говорит, схороните вы меня честь честью…
С тем и помер.
Запечалились востоковцы. За что столько народу переглушили? Пошли со слезами домой, а которые пожалостливее да посовестливее, взяли того беднягу на руки, принесли к церкви, гроб сколотили, могилу вырыли, давай хоронить. Позвали попа, он было уже ризы надевать, да тут кто-то из Ухиных шепнул: «Вот, мол, кого хоронить будет, воеводского супротивника. Как бы тебе не нагорело». Поп ряску подобрал да задним ходом из церкви убег, у просвирни схоронился. Видят людишки, нет попа. Подняли гроб, понесли по улицам на погост, сами «со святыми упокой» всем народом поют. Понесли мимо Устаревшего, а он в окно смотрит… Затрясся весь.
«Вот оно, – думает, – упразднение идет».
Тут уже и Негодяеву-старшему конец пришел. Призвал его воевода, чины, ордена снял, разжаловал его в хлебопеки: ты, мол, не умеешь порядок делать. Заместо порядка у тебя смута.
Востоковцы было обрадовались: слава те господи, воевода у нас опамятовался. Даже иллюминацию по этому случаю без дозволения начальства зажгли. Ан вышло-то опять хуже: на место Негодяева воевода призвал старшего сержанта гвардии Мрак-Могильного.
Сержант этот прежде в полиции служил, только промашку раз сделал. Был в городе большой парад, в церкви народу набилось видимо-невидимо. И кто-то, человек без совести, у воеводской тещи кошелек из кармана вытащил. Призвал тогда воевода сержанта Мрак-Могильного: «Ты, говорит, у меня за парадами смотришь?» – «Я, ваше воеводство, это точно». – «Как же это у тебя такой случай? Что хочешь, говорит, то и делай, а чтобы вперед этого ни отнюдь не было».
Думал-думал сержант Мрак-Могильный, как сделать, чтобы уж наверное этого никогда случиться не могло. Да и надумал: поставил у церкви плашку небольшую да заплечного мастера тут же. На колокольне заблаговестили. Народ у церкви сбился, жмутся все, никто в церковь идти не желает, потому что у паперти плаха. Приезжает сам воевода. «Что тут такое, говорит. Ты что это затеял? Зачем плаху у храма божьего поставил?» – «А это, говорит, ваше воеводство, я по вашему указу средство надумал. Теперь уж у меня на парадах ворам-то полно воровать. Стану я, говорит, им правую руку рубить… Левой им несподручно».
Испугался тут воевода.
– Как же ты, – говорит, – воров-то узнавать станешь?
– А что, – сержант отвечает, – мне их узнавать: больно хлопот много, недосуг. Я, – говорит, – кто в церковь идет, всем по правой руке оттяпаю, так уж тут и вор не уйдет… Только вот они супротивничают, больно набаловались. Прикажи им подходить. Пожалуйте, господа. Нечего тут!
– Дурак ты, дурак, – говорит воевода. – А ежели вор-то – левша. Ты мне весь народ перепортишь! Доброму-то перекреститься станет нечем, а вор и левшой таскать станет… – Позвал околоточных – велел того сержанта убрать. И посадили его на цепь, потому что со временем стал уже на людей зря кидаться.
То было в прежнее время, а теперь вспомнил воевода про сержанта да прямо с цепи на место Негодяева и посадил.
Стоном застонал город Восток со всеми пригороды и со деревнями, стали Негодяева поминать, отцом родным называть. Кинулись опять к попу: иди, говорят, воеводе от писания скажи, может послушает, опять Негодяева вернет… А поп опять: «Несть, аще не от бога».
– Неужто, – говорят, – и сержант тоже от бога?
– А то от кого же? Власть предержащая…
Еще больше тогда народу в раскол ударилось, а воевода и в ус не дует. Думает: ну, теперь сержант уж у меня всех усмирит. А цепной сержант по городу на тройке летает, глаза точно колеса вертятся, усы точно две сабли турецкие, народ от страху от одного умирает.
А весна-то, вместо ранней, и вовсе не идет. Уж ей давно быть надо, а вместо того кругом снег лежит, по ночам метель воет, деревья подо льдом ломаются. Прилетели было первые ласточки, да скоро позябли. А которые не позябли, за теми сержант с архаровцами гонялся да на площади головы рвал.
Запечалились востоковцы.
– Видно, – говорят, – и впрямь Устаревшему дана такая власть, что может чреду времен прекратить…
Только Невинномыские еще несколько утешали. «Надейтесь, говорят. Как уже хуже того, что теперь есть, и быть более нечему, то, значит, пойдет дело к лучшему». Сержант над ними за то лютовал, но они не унимались. А один молодой – самому воеводе на улице крикнул: «Врешь, воевода, не сможешь весну победить! Исчезнете оба с сержантом, как черви! Еще таких примеров не бывало, чтобы воеводскими приказами течение времен воистину отменялось…» Схватили его, а как по расследованию оказалось, что оный крамольник читал историю, то учебники Иловайского приказано все пожечь без остатку…
Кинулся тогда народ из Востоковской округи… Стали собирать пожитки, детей да стариков на телеги сажать да за рубеж, где весну начальство не запрещает, потянулись. Сведал сержант, стал войска собирать… Диву дались востоковцы: ни с кем войны нету, а через город войска идут, казаки скачут, пушки гремят. И все на рубеж. Обложили границу – зверь не прорыщет, птица не пролетит… Сержант доволен:
– Теперь, – говорит, – ваше воеводство, спите спокойно, – я, – говорит, – крамолу эту вывел, людишки больше уж и не ждут ничего: ни им к весне, ни весне к ним ходу нет…
Замерла вся Востоковская округа… Не то сонное, не то мертвое царство: люди ходят, озираючись, ошалелые, брат брата, отец сына боятся…
Доволен воевода Устаревший, сержанта Мрак-Могильного похваливает…
* * *Стоял на рубеже с полуденной стороны казак караульный… Поставили казака, велели караулить, чтобы никого за рубеж не пускать, а наипаче, чтобы из-за рубежа не пришло какого неблагополучия… Казак, известно, человек служащий: поставили, стоит; случится что – он в ответе. Стоит да смотрит: кругом снег глубокий лежит, воронье над снегом летает…
Только вдруг слышит казак: журчит что-то, тихонько таково, крадучись. Послушал он, послушал, потом оглядываться стал: где бы это? Оглядывался, оглядывался, потом креститься начал… И радостно-то ему, – видно, и впрямь не осилить божьей весны воеводскими приказами, – и боязно: вдруг этакое да в его караул приключится. Не чаял казак и смены дождаться… Пришла смена, – ушел поскорее, ничего не сказал.
Только ночью глубокой, в самую полночь, – вдруг на рубеже из пищали ударили. А потом в другом месте, в третьем, пошла трескотня по всей линии. Засуетились дежурные, заскакали ординарцы и офицеры. Что такое? С кем воевать, кого отражать? «Весна, такая-сякая, прососалася через рубеж, журчит всюду…» Слушают казаки, крестятся. Лица у всех радостные, только ответа боятся…
Послали гонца к воеводе. Прискакал гонец в полдень, а в городе-то время полночь на каланче значится. Спят обыватели, ставни всюду заперты, сторожа в трещотки бьют… Один сержант по мертвому городу скачет, глазами стреляет. Попался ему гонец навстречу: «Стой, что за человек?»
– Гонец к самому воеводе!
– Сказывайся мне, я тебе важнее воеводы. – Известно, обнаглел сержант на всей своей воле. Ну, казак видит: начальство строгое. – Так и так, мол, ваше-ство, – на рубеже весна прососалася.
Чуть сержант с коня не свалился, потом повернул лошадь, поскакал к воеводскому двору, и казак за ним.
А уж по городу точно в набат ударили: никто, кажись, и не слыхал, как казак сержанту про весну докладывал, а вышло так, будто он то слово в набатный колокол ахнул. И случилось тут чудо чудное и диво дивное: на каланче-то еще фонарь чадит, а по всему городу без начальственного приказу ставни открываются, народ на улицу валит, обнимаются, точно в светлое христово воскресенье, плачут от радости. И у всех одно на уме: ну, видно, весна-то и впрямь воеводских приказов сильнее!
Пошел по улицам шум… А тут как раз ласточка прилетела. Села пташка божия на воеводском заборе: тилик, тилик, тилик… Кинулись за нею архаровцы, ан людишки (прежде подлым обычаем и сами помогали) – теперь мешают да ножки архаровцам ставят…
На ту пору приехал к воеводе Устаревшему из другой округи начальник какой-то: слышал он, что житье Устаревшему хорошее, что хочет – делает, и захотелось ему посмотреть, верно ли.
– Верно, – говорит Устаревший. – Все могу. Вот, – говорит, – нынче я у себя весну запретил…
А на ту пору на улице вдруг из пушки грянули.
– Это, мол, что?
– Это, – ординарец воеводский докладывает, – сержант по ласточкам из пушек палит. Летит их видимо-невидимо из-за рубежа…
– Для чего это он делает? – спрашивает гость.
– А потому, – воевода отвечает, – чтобы людишкам неповадно было. А то – все ведь, глупые, весну поджидают…
Покачал гость головою.
– Ты бы, – говорит, – им лучше дозволил.
– Как же, – говорит, – им дозволить, когда в моей округе дело-то еще к осени подходит? А за осенью-то, – говорит, – еще лето пойдет…
Он уж и сам поверил своему счету: думает, – и впрямь время назад пошло.
Посмотрел гость на воеводу да давай свои пожитки укладывать: с тобой, говорит, беды наживешь. Ты бы, говорит, хоть календарь Суворина посмотрел.
– Календарь? – говорит воевода. – Да у меня теперь в округе ни одного календаря не сыщешь. От этих-то вот календарей в наших округах воеводы перевелись, никакой власти не стало. А я воевода природный, у меня этого баловства нет…
– Ну, так прощай, счастливо оставаться. А я у тебя и дня не останусь, когда уж ты с весной воевать принялся. Бывало это и у нас в старину, да добра от этого не видали. Ты бы хоть Иловайского учебник прочитал.
– Я и Иловайского-то всего пожег…
Поехал гость, глядит: в городе шумно и неспокойно. К полудню солнце поднялось, греть начало, с крыш каплет, по улицам ручьи бегут. Сержант с командою скачет, по ласточкам из пушек палит, народ разгоняет. А народ-то уж не слушается. На стенах плакаты какие-то наклеены, все читают, на шесты тоже листки от суворинских календарей навесили, носят по городу и все кричат:
– Весна пришла! Долой сержанта!..
Народу все прибавляется, идут к воеводскому двору. А у воеводского двора команда лопатами воду отгребает, а вода все прибавляется. Глядел воевода из окна, видит, что команде не управиться, выскочил во всей парадной форме да давай и сам руками потоки весенние загораживать… Оглянулся воевода, – слышит: не то, что уж вода звенит, народ кругом над воеводою грохочет… Махнул рукой, убежал к себе на вышку. А народу все больше да больше, запрудили всю площадь, кричат:
– Весна пришла. Подавай нам сержанта на расправу…
Попробовал воевода выйти на крыльцо:
– Кто, – говорит, – я по здешнему месту?
– Ты, – говорят, – воевода Устаревший, с весной воевал, время вспять обращал… Да мы супротив тебя ничего. А подавай нам – кто тебя, Устаревшего, научал. Давай сержанта. Ставь нам опять Негодяева-старшего.
Связали сержанта по рукам, по ногам да на воеводских глазах в воду бросили. Поплыл сержант, как колода с потоками весенними, и на его место, – делать нечего, – позвал воевода Негодяева.
Вышел Негодяев на крыльцо и говорит народу:
– Молитесь богу, православные. Воевода, по великой милости, дозволяет опять счет времен повернуть.
– Это что же выйдет? – спрашивают у него.
– А выйдет, что пускай теперь будет Зимний Никола. Через три месяца, гляди, и весну разрешим.
Разлютовался тут народ: «А, говорят, подлое семя. Вы опять за старое. Да нет: нонче уж весна пришла, долой Негодяева!»
Схватили старика. Он кричит: «Братцы, календари разрешим!» Ладно. Связали да и бросили в воду вслед за сержантом.
– Теперь, – говорят Устаревшему, – ставь ты нам Невинномыского-старшего.
Заплакал воевода.
– Детушки, да ведь он враг мне исконный: календари передерживал да канты про весну сочинял.
– То нам и любо. Весна пришла! Ставь Невинномыского.
Нечего делать. Позвал воевода Невинномыского-старшего. «Послужи ты мне, говорит, забудь старое».
– Ладно, ваше воеводство. Мы вам с искони слуги верные были, только вы не верили. Вот вас до чего Негодяевы, да Ухины, да сержанты довели. Ну, да авось дело поправим. Только уж слушайте меня. – Вышел он к народу, седенький да благолепный, и проливает радостные слезы:
– Дождались мы, – говорит, – светлого дня. Воевода милостивец весну разрешил: пущай, говорит, будет! Теперь, братцы, на земле мир, в человецех благоволение. Послушали люди, головами качают.
– Какое, – говорят, – тебе благоволение: вчера сержант из пушек по ласточкам палил, завтра воевода другого архаровца сыщет… Ты нам скажи, как нам навсегда этой срамоты избыть?..
Шумит народ, а Невинномыский все только в грудь себя колотит да слезы проливает.
– Братцы, – говорит, – да ведь весну нам разрешили. Календарь скоро новый напечатаем…
– Нет, – говорят, – плох и этот. Давай нам из Невинномыских да поретивее.
Шумели, шумели, даже и драки немало было. Всю ночь воевода на своей вышке дрожмя дрожал. А наутро пришли опять к нему выборные и говорят:
– Вот что, Устаревший: уезжай ты от нас подальше. Грех только из-за тебя выходит… Да и перед другими округами стыдно. Сделаем мы теперь у себя, как у людей.
– Детушки, – воевода говорит, – зачем меня гнать? Я воеводский мундир сниму, исправницкий надену, вот и ладно.
– Нет, – говорят, – не согласны!
– Думы вам заведу!..
– Мы и сами заведем, без тебя. А с тобой одна срамота. Опять, то и гляди, ухитришься, станешь потоки весенние руками загораживать.
Делать нечего. Сел воевода в колясочку – покатил вон из округа с семейством. Едет по дороге, – а кругом-то уж поля зеленеются, воеводе даже чудно:
– Эх, – говорит, – маленько у меня сержант оплошал! Оттого все и вышло.
В полях людишки пашут, никто-то воеводе шапки не ломает, на станцию приедет, только одни ротозеи и глядят на него, усмехаются. Осердился воевода, так и хочется ему крикнуть:
– Кто я по здешнему месту?
Да только заплачет…
Глядь, на одной станции народ сгрудился. «Что такое, – думает воевода. – Не одумались ли мои людишки, не опять ли меня назад повернуть желают?» Ан нет, это, говорят, мы звездочета из чудской земли встречаем, которого воевода за правду сослал…
И верно, – подкатывает к станции звездочет, борода седая по пояс. Народ «ура!» кричит, с почетом его встречают.
И встретились на станции воевода с звездочетом. Узнал тот воеводу.
– Эх, – говорит, – глупый ты, глупый, воевода, не хотел ты меня слушать. Говорил я тебе про потоки весенние…
– То-то говорил. Я и остерегался.
– Кабы, – говорит звездочет, – не ваша, Устаревших, манера, что не дадите вы людям слова сказать, сейчас на фельдъегерских в дальние волости ссылаете, так я бы тебе, воеводе, тогда же объявил. Народ у тебя был смирный да повадливый, ни от купцов, ни от бояр, ни от чернеди опасности тебе не было.
– Знаю, от солнца красного да от потоков весенних. Так и вышло.
– То-то и вышло оттого, что ты меня не дослушал. Хотел я тебе сказать: остерегись только воевать с солнцем красным, да с весной, да с потоками весенними. Людишки у тебя на диво смирные, правил бы ты до смерти.
Взял тут он бывшего воеводу и вывел на пригорок. С пригорка-то далеко видно: кругом поля расстилаются, леса темнеют, речки по земле змеятся и сверкают. По нивам пахари пашут, будто мураши ползают. И где такой мураш проползет, земля, как бархат, почернеет. И уже половина земли черная…
– Гляди, – говорит, – глупый ты человек. Понимаешь ли ты эту силу великую? Была земля вся белая от снегу, господь снег согнал. А человек ее чуть не всю ровно бархатом пашней покроет. А ты, глупый воевода, со своим сержантом хотел великое земное стремление удержать и вспять обратить. С весной бороться вздумал…
Посмотрел воевода кругом и вздохнул: «Глупый я, глупый! Неужто я это все задержать хотел?» А звездочет говорит:
– Ты бы, воевода, каждой весенней былинке радоваться должен. Ты бы, воевода, смотрел, чтобы никто весне-матушке и великой народной работе мешать не мог. Ты бы великому деланию помогать должен: увидел ты, что в твоей округе новая былинка появилась, ты бы и ту пригрел да окопал. Узнал ты, воевода, что у твоих людишек новая мыслишка в головах засветилась, – ты бы и ей помог да поддержал… Или хоть не мешал бы, и то дело! И шло бы в твоей округе великое делание, и благословляли бы тебя все роды. А пришло бы время, ты же бы сам у себя и перемену сделал… А ты, – смешно сказать, – с календарями воевать стал, по ласточкам из пушек палил, а то и забыл, что иной раз и камни… да что камни – календари с учебниками, – и те супротив тебя возопить могут. Кончено твое дело, воевода Устаревший, и не познаеши к тому места своего. Аминь!
Так оно и вышло. Завелись после того в Востоковской округе новые порядки, думы да соборы. Первое время не вовсе было спокойно, так что даже порой улица на улицу ходила и волость на волость. Все спорили, как лучше устроить. И не раз на ту пору Устаревшие подсылали отставных околоточных, чтобы народу про них напоминали: дескать, вот при ком спокойно было. Да людишки только смеялись:
– Это те, что руками потоки весенние ловят да вспять обращают? Не надо! Как уж никак перебьемся, а на эту срамоту не согласны.
Так и перевелся род Устаревших воевод в Востоковской округе.
1886
Примечания
В. Г. Короленко родился в Житомире в семье уездного судьи; учился он в Петербурге, в технологическом и горном институтах, а также в Петровской земледельческой и лесной академии. За участие в студенческих волнениях и революционной деятельности не раз исключался из учебных заведений и ссылался. В основном его творчество было проникнуто социальными мотивами и посвящено актуальной для той эпохи тематике. Короленко быстро вошел в число наиболее признанных писателей конца XIX века. Он обращается и к русскому фольклору, и к исторической теме в повести на библейский сюжет «Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды» (1886), вкладывая в нее свой резкий протест против теории «непротивления злу насилием».
В сказке «Стой, солнце, и не движись, луна!» фольклор и иносказание используются в целях обличения современного общества. Сказка написана под влиянием Салтыкова-Щедрина. Впервые была напечатана лишь в 1927 г.
Печатается по изд.: Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4.– М., 1954.
Примеч. Н. А. Листиковой.



