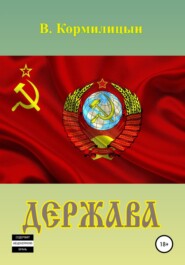
Полная версия:
Держава
– Это кто? – услышал голос Истратова.
– Подполковник Рубанов у телефона, Аркадий Васильевич.
– Вот и славно. А то Соколовскому никак не дозвонюсь. Отводите личный состав. И своих и наших. Частями и незаметно для фрицев. Насчёт «незаметно» – указание вышестоящего начальства, иронично хмыкнул полковник и отключил связь.
– На пляже, что ли, лежите? – крикнул вахмистру с подпрапорщиком Глеб. – Цепью выводите солдат к окопам. Да раненых не забудьте выносить, – вынул из футляра «цейс» и стал разглядывать недалёкий берег, где закрепились враги: «Из каких-то гуманистических соображений обстрел явно уменьшился, – поднялся он и чуть пригибаясь, побежал в сторону своего берега, почувствовав, как пуля чиркнула папаху, сбив её с головы. – Не все у гансов гуманные, – нагнулся, чтоб поднять головной убор и почувствовал тупой удар в ногу, которую словно кипятком обожгло. Хотел сделать шаг, но нога подломилась, и он упал на колени рядом с чьим-то телом в офицерской шинели. – Бог ты мой. Да это же капитан из Осовца, – узнал убитого офицера. – То есть – подполковник, – рухнул на лёд рядом с ним. – Вот как бывает… Наверное, в «атаке мертвецов» участвовал и жив остался… А здесь смерть догнала», – увидел подбежавших к нему вахмистра и подпрапора в гусарских ботиках.
– Сейчас, Глеб Максимович, поможем вам, – подхватили офицера под руки и потащили на свою сторону.
– Рубанов, никак не могу с вами пообщаться, пока вы в здравии, – гудел полковник Истратов, сидя в тесном помещении блиндажа на табурете у походной кровати, застеленной белоснежной простынёй.
Здесь же, за столом, расположились Соколовский с Меньшиковым.
– Спирт – лучшее из лекарств, – колдовал над флягой князь, смешивая в равных количествах две жидкости.
– Лошадей только им и лечите, – вставил Соколовский, радуясь, что его друг жив и лишь легко ранен в мякоть ноги. А мне наговорили, что Глебу напрочь ногу оторвало.
– Пустяки, – разливал по кружкам «огненную воду» Меньшиков. – Спирт всё лечит. Только полковник Жуков этого не понимает, – узрел вошедшего в помещение командира гусарского полка.
Через два дня Глеб, получив отпуск по ранению, был уже в Петрограде, а ещё через день, распрощавшись с родными, направился в Москву.
Рана особо не беспокоила, и он блаженствовал в уюте вагона, предвкушая встречу с Натали.
Соседями по купе были седой господин в пенсне и бородке клинышком, и худой прапорщик с высоко вылезающей из ворота гимнастёрки шеей.
Прапорщик постоянно вынимал из коричневой офицерской кожаной полевой сумки какой-то документ, и, закатив глаза, чем очень смахивал на повешенного, шевелил губами, заучивая текст; а седой господин с таким же постоянством снимал с переносицы пенсне и протирал платком.
Разговор не ладился. Заказав у проводника чаю с лимоном, Глеб глядел в окно, наслаждаясь мирным видом России, неожиданно подумав, что осовецкий капитан, убитый на Двине, никогда уже этого не увидит.
Пожилой попутчик, протерев, водрузил на нос пенсне, наведя его стёкла на стакан, и, позавидовав, тоже заказал у проводника чаю.
Юноша с тонкой шеей всё бормотал и бормотал, заучивая страницу текста и вводя в раздражение Рубанова.
«Маменькин сынок, фендрик ушастый, – нелицеприятно подумал о нём Глеб. – До сих пор, наверное, боится ноги промочить и не пьёт сырой воды, ибо маменька не велит… Вот и воюй с такими… Шея как у быка… Хвост! – почувствовал, как вагон загромыхал на стрелках, подходя к какой-то заштатной станции. – Пойти свежим воздухом подышать что ли?», – опираясь на трость, чуть прихрамывая, направился в тамбур.
Пока проводник гремел дверью, открывая её и бормоча при этом наподобие юного прапорщика, только давно заученную матерщину, Глеб разглядывал безлюдный, с грязными тёмными окнами облупленный вокзал с высившимися над ним белёсыми от инея деревьями и хромую, как сам, собаку, прогулявшись, севшую возле медного колокола, висящего на стене между окнами.
Держась за поручень, спрыгнул на перрон с площадки и заскрипел по заснеженному дебаркадеру начищенными Аполлоном сапогами, временами морщась от стреляющей боли в раненой ноге.
Колючий мороз щипал за щёки и нос: «Вот настоящая русская зима, а не чухонская пародия на неё, – заметил, как из тёмного вокзала, прихрамывая, – я, что ли, всех заразил?» – вышел помятый человек в чёрных валенках и тулупе, высморкался на собаку, дал ей пинка, и гулко кашляя, три раза ударил в колокол.
В ту же секунду кондуктор, один из всех присутствующих не страдающий хромотой, внимательно глядя на Глеба, пронзительно затрещал в свисток, размышляя видимо, успеет хромоногий офицер добежать до вагона или нет.
В унисон с ним оглушительно протрубил паровоз и Глеб ловко, несмотря на рану, заскочил в вагон, разочаровав этим уставшего от однообразия дороги проводника.
Маленькая безвестная станция медленно поехала назад, постепенно пропадая из глаз, и тяжело отчего-то вздохнув, Глеб похромал в купе, уловив краем уха, такой же тяжёлый вздох паровоза.
«Я скоро увижу Натали», – с нежностью подумал он, укладываясь на нижней полке.
В Москве, дабы унять возникшее в душе волнение от предстоящей встречи с женой, решил развеяться, проехав по городу на санях.
Велев извозчику остановиться у казарм своего полка, вылез из саней и несколько минут с наслаждением обозревал ворота и здание, вспомнив молодость и полностью восстановив расшатавшиеся нервы.
Затем, купив пышный букет роз и отказавшись от услуг доставщика, поехал к дому Бутенёвых-Кусковых.
Дверь открыла прислуга, и не успел Глеб поднести к губам палец, призывающий её к молчанию, как та, во всю силу лужёной глотки завопила:
– Господа-а! Барин с войны вернулся.
Первой, пока, укоризненно глядя на горлопанку, Рубанов спешно освобождал розы от хрустящей лощёной бумаги, в прихожую влетела Натали и повисла на шее мужа.
Затем, чуть отстранившись и едва сдерживая слёзы, испуганно произнесла:
– Глеб, ты ранен?
– Да нет, споткнулся на вокзале, – прислонил трость к стене и протянул жене букет, улыбнувшись вошедшей в прихожую Зинаиде Александровне.
– Глеб! – поразилась та. – Что же не сообщил о приезде? – обняла офицера. – Дмитрий Николаевич, где же ты?
Рубанов, улыбаясь и немного стесняясь, аккуратно повесил шинель и папаху на вешалку, и, пригладив ладонью волосы, шагнул в комнату, где, вытянув навстречу руку, стоял отставной полковник.
– Дайте-ка, батюшка, полюбуюсь на вас, – обнял Рубанова.
«Как они постарели с Зинаидой Александровной за то время, что не видел их», – подумал Глеб, влекомый за руки к дивану.
– Да где же твои ордена? – усадили гостя на диван отставной полковник с супругой, разглядывая одинокий нашейный знак Владимира с мечами.
– Орденами пусть штабные хвалятся, – полюбовался Натали, ставящей розы в хрустальную вазу, и перевёл взгляд на горящую лампадку синего стекла под киотом с иконами в красном углу.
– Что же не идёт Вера Алексеевна? – перевёл взгляд с лампадки на множество отражающихся язычков пламени в чистых стёклах старого громоздкого буфета, вновь затем глянув на Натали.
– Мама болеет, – грустно сообщила та. – Пойдём, наведаем её, – взяла мужа за руку, и он тут же поднялся с дивана.
Вера Алексеевна строго, словно с иконы, смотрела на Рубанова, но через минуту слабая улыбка тронула её губы.
Она хотела произнести: «Умираю…», но сочла это бестактным по отношению к гостю в первую минуту встречи, и слабым голосом прошептала:
– Болею, – сделала попытку поднять руку и дотронуться до Глеба, но сил не хватило, и Рубанов сам коснулся ладонью её руки, и на секунду склонил голову, мысленно прощаясь с матерью Натали.
Он знал, что жить ей осталось недолго, и отчего-то вспомнил капитана из крепости Осовец, убитого недавно на реке Двине.
Затем они сидели за столом и тихо вели разговоры о войне, Москве, армии и будущей победе, рассуждая, какая потом наступит жизнь.
– Главное, чтобы нашей победе не помешали всякие князья Львовы и гостинодворцы Коноваловы с Гучковыми, у которых родина там, где их капиталы. Пока это Россия, – разволновавшись, отставной полковник неловко вылез из-за стола и, скрипя половицами, прошёлся по комнате, попутно отшвырнув попавшего под ноги жирного кота.
– Душа моя, это кот Васька, а не миллионщик Гучков, – пожалела любимца Зинаида Александровна.
Хмурясь, Дмитрий Николаевич сел на своё место и взяв из вазы печенье, чуть не минуту крутил его в руках, сосредотачивая мысли.
Все внимательно глядели на него.
– Месяц назад вместе с другими офицерами был зван в особняк Александра Ивановича Коновалова, директора правления Товарищества мануфактур «Иван Коновалов с сыном». Всего лишь коллежский секретарь по табели о рангах, что равняется штабс-капитану, он является членом Общества содействия успехам опытных наук, состоящего при Московском университете, членом Московского отделения Совета торговли и мануфактур, членом Московского автомобильного и биржевого обществ, а по совместительству ещё председатель Московского общества баламутов…
– Ну, это вы уже хватили лишку, батюшка, – даже подавилась котлетой его супруга.
– И к тому же главный московский англоман, – не услышал мнение жены отставной полковник. – Шофёра Ивана зовёт Джон, а себя – сэр Александр. В доме всё заведено на английский манер. Вот и мечтает, что ни для кого уже не секрет, кроме полиции, конечно, устроить в России конституционную монархию типа английской, а лучше и вовсе как во Франции, обойтись без монарха.
– И в армии ходят слухи о скорой революции, – подтвердил слова отставного полковника Рубанов. – Но я в это не верю. Через несколько месяцев разобьём врага, и всё станет на круги своя. Какая, к чёрту, революция!?
– Как, какая? Обыкновенная, – отложила вилку Зинаида Александровна. – Третьего дня идём с Наташенькой по городу – рабочие как раз бастовали и на их усмирение Московский градоначальник казаков вызвал… Так один из «дикарей» подошёл к разбитому окну библиотеки и, нехорошо ухмыляясь, на наших глазах расстегнув штаны, предложил юной барышне-библиотекарше « заняться родной речью, чтоб от зубов отскакивала…» Не знаешь, что лучше… Одни окна бьют «оружием пролетариата», пока листовку читала, чуть ногу не подвернула о вывороченный булыжник, а другие скабрезничают…
– Да ты, матушка, обиделась на казачка за то…
– Так, не очень уважаемый супруг мой, это ничего, что за столом дети сидят?
– Пардон, – отчего-то вдохновился отставной полковник. – Родная речь для молодых, а в твои годы классиков следует изучать…
– Ещё одно слово о словесности…
– И снова пардон, мадам. Вадим Николаевич Шебеко… Я, матушка, уже не о литературе и писателях… О военных. В частности, о Московском градоначальнике. Встречался с ним несколько раз. В прошлом – гвардейский офицер и флигель-адъютант. Сейчас, Свиты генерал-майор. Человек, скорее, придворного закваса, а не армейского. Прекрасно воспитан. Окончил Пажеский корпус. Как и Коновалов – с налётом англоманства. К полиции, жандармерии и казакам относится, согласно своему воспитанию – с презрением.
– А как к ним ещё относиться? – тоже вдохновилась Зинаида Александровна. – Теперь барышня-библиотекарша по ночам спать не будет… Так, помолчите, циничный супруг мой. Вам бы тоже не помешал небольшой налёт англоманства, дабы разбавить славянский казарменный флёр. Я хотела сказать – от страха не будет спать… Да разве вы дадите закончить мысль? Потому как образование получили в солдафонском Павловском училище, – очень порадовала своими словами Глеба: «Вот бы брат услышал», – замечталось ему.
– Испугаешь вас, как же, – не сдавался доблестный павловец, всё же сумев вставить пару поперечных слов в монолог супруги. – А теперь о войне, – выставив ладонь, осадил попытавшуюся возмутиться жену. – Пошли слухи… Из особняка Коновалова, – уточнил местонахождение отправной точки, – что в ближайшем будущем Американские Штаты вступят в войну на стороне Антанты.
– Ждали, кто побеждать начнёт, – иронично произнёс Рубанов.
– Скорее всего, так и есть. Весьма практичные люди. Пока оказывают воюющим сторонам – Антанте и Германии, экономическую помощь, с большой выгодой для себя, разумеется. За время войны справились с кризисом в своей стране и в разы сократили безработицу. Теперь их промышленники и банкиры заволновались – в войне наметилась развязка. В Вашингтоне встревожились – в этом году с Германией будет покончено, а на «пир победителей» они не попадут и «делёжка пирога» пройдёт без них. Непорядок!
– Да мы и без их солдат справимся, – включился в беседу Глеб. – Нам бы только внутренние «друзья» не вредили. Коноваловы всякие… Тоже пирога отведать хотят… Да чтоб трапезничать без батюшки-царя.
Вечером этого дня не стало Веры Алексеевны.
Преставилась она тихо. Уснула и больше не проснулась.
А через три дня после погребения, Глеб уехал в свой полк – служба есть служба.
В Петрограде продолжали бушевать политические страсти, причём ни столько в низах, сколько в верхах.
Особенно ввязались в склоку великие князья, идя на поводу у думской оппозиции и по депутатскому наущению уговаривая венценосного родственника пойти навстречу общественности: уволить Протопопова и назначить в правительство министров, пользующихся доверием народа… Под «народом», естественно, подразумевая российскую политическую и экономическую элиту, совершенно переставшую понимать смысл русской государственности и самодержавия, к тому же, подстрекаемой из-за рубежа мощнейшими антироссийскими финансовыми группировками и спецслужбами.
7 февраля генерал Глобачёв отослал Воейкову донесение, что по его сведениям 14 февраля, в день заседания Государственной думы, возможна попытка устроить шествие к Таврическому дворцу, что может привести к весьма серьёзным последствиям.
Подумав, Воейков связался по телефону с министром внутренних дел Протопоповым.
– Александр Дмитриевич, как поживают ваши бывшие друзья-коллеги в Госдуме? Не пора ли взять под арест одиозных общественников-сканда-лисов: Гучкова, Милюкова, Коновалова…
– Владимир Николаевич, успокойтесь. Экий вы кровожадный… Всё под контролем и не стоит портить отношения с Думой. После ареста в конце прошлого месяца рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета, коим руководил меньшевик Гвоздев, революция раздавлена и опасность бунта миновала. Арест видных думских и общественных деятелей вновь осложнит положение в стране.
О выводах министра внутренних дел Дворцовый комендант в тот же день доложил императору.
– Эти думские господа воображают, будто пекутся о благе России, а на деле вредят ей более революционеров, тихо сидящих в пивнушках Швейцарии. Дали бы мне войну закончить… Назначьте на девятое число аудиенцию Маклакову. Приму его в полдень, – отпустил Воейкова государь.
В назначенное время бывший министр внутренних дел, уже почти два года находившийся в отставке после травли в думских кругах и центральных газетах, стоял перед государем.
– Николай Алексеевич, присаживайтесь и курите, – пожал руку гостю император. – Хорошо помню, как перед войной, руководя министерством внутренних дел, вы предлагали дать жёсткий отпор думской оппозиции.
– Так точно, ваше величество. Вы прислали мне письмо, где выразили поддержку. Заучил его наизусть, – начал цитировать на память: «С теми мыслями, которые вы желаете высказать в Думе, я вполне согласен. Это именно то, что им давно следовало услышать от имени Моего правительства. Лично думаю, что такая речь министра внутренних дел своей неожиданностью разрядит атмосферу и заставит г. Родзянко и его присных закусить языки».
– Этого и доселе не произошло, – грустно промолвил Николай. – Посему поручаю вам подготовить проект Указа о роспуске Государственной думы.
Слухи о нежелательном для Думы проекте тут же дошли до Родзянко, и на следующий день он выпросил у царя аудиенцию, заявив: «Ваше величество, спасайте себя. Мы накануне огромных событий, исхода которых предвидеть нельзя», – стал запугивать самодержца.
Николай нахмурился.
– Михаил Владимирович, – холодно окинул взглядом председателя Госдумы. – Хочу предупредить, что если руководимая вами Дума позволит себе что-либо резкое, она тут же будет распущена.
– Значит, это мой последний доклад, – склонил перед императором голову Родзянко. – Уверен, что после роспуска Думы вспыхнет революция.
– А если её не распустить – случится государственный переворот, к чему вы так все стремитесь, – словно ледяной водой окатил главного депутата царь. – Ступайте! Свободны!
Спасая Госдуму, Милюков обратился к прессе с открытым письмом, убеждая массы не проводить демонстрации. И день её открытия, 14 февраля, прошёл буднично и без эксцессов. Задуманное шествие не состоялось.
Случилась одна забастовка в лафетно-штамповочной мастерской Путиловского завода, но большого влияния на события она в этот день не оказала.
В России наступил Великий пост.
Царская семья говела и молилась. 17 числа исповедовались, а 18 – причащались.
«Я родился в понедельник, шестого мая, високосного тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года в день мученика Иова, – стоя на коленях перед иконой страдальца в домашней церкви дворца, мысленно обратился к Вседержителю раб Божий Николай. – И если Ты дашь мне, Господи, испытание, я приму свой Крест как библейский праведник – кротко и без ропота. И как Христос, не стану просить гонителей своих о жалости. Скажи мне, Боже, слово Своё… Укрепи меня, если земной Иуда предаст», – глядел на огонёк лампады и непрошенные слёзы текли по его лицу.
Как только вышел из домовой церкви, Воейков передал ему телеграмму внезапно вернувшегося в Могилёв генерала Алексеева с просьбой срочно прибыть в Ставку.
– Какая в этом необходимость? – удивился государь, прочитав текст. – Наступления в ближайшие дни не планируется. Немцы сидят тихо, как мыши. Так же спокойно ведут себя путиловцы в лафетно-штамповочной мастерской, – пошутил Николай, но тут же вновь стал серьёзен. – В Питере, по сведениям Протопопова, нет причин ожидать чего-нибудь особенного. Но министр сообщил, что генерал-адьютанта Алексеева недавно навестила в Крыму группа депутатов и общественных деятелей во главе с Гучковым, после чего он восемнадцатого числа прибыл в Могилёв и направил мне эту телеграмму. Полагаю, верный мой воевода намерен поделиться какими-то полученными от них экстраординарными сведениями… Не буду гадать… Скоро и так всё станет ясно. Подготовь отъезд на двадцать второе число, – велел Воейкову император.
За день до отбытия в Ставку венценосная семья осмотрела недавно отстроенную трапезную в Фёдоровском городке.
– Аликс, так и кажется, что сейчас из сводчатой палаты выйдет царь Алексей Михайлович и обнимет меня, – любовался настенной живописью и древними иконами, доставленными из подмосковной церкви, построенной во времена далёкого пращура.
Немного утомившись, расположился в старинном кресле, а в соседнее села жена.
– Но вот эта картина здесь не к месту, – указал Александре Фёдоровне на полотно с изображением выезжающего из-за поворота паровоза, тянущего несколько вагонов.
– Действительно, этот состав, движущийся по Сибири и старинная икона с зажженной лампадой над ним, смотрится как-то недобро и даже зловеще, – передёрнула она плечами.
– Аликс, ну что здесь страшного? – поднялся из кресла Николай. – Просто ты встревожена завтрашним моим отъездом.
– Ники, умоляю, не езди. Впервые за всё время твоих поездок в Ставку, душа не на месте. Мне страшно…
– Успокойся, милая, – обнял жену за плечи. – Через неделю вернусь и мы посмеёмся над твоими страхами.
Вечером государь принял военного министра Беляева и председателя Совета министров князя Голицына.
– Господа. Я вынужден на несколько дней покинуть столицу. Протопопов вчера уверил меня, что в Питере всё спокойно и каких-либо эксцессов не предвидится.
– Ваше величество, у меня такое впечатление, будто это затишье перед бурей, – поднялся из-за стола Беляев.
– Михаил Алексеевич, ну что вы, право… Разнервничались… Переговорю с вашим тёзкой, генерал-адьютантом Алексеевым, посмотрю, как Гурко вёл в его отсутствие дела и вернусь, – улыбнулся министру государь. – Я ведь недавно подписал ваш проект о выделении Петрограда из-под юрисдикции Северного фронта генерала Рузского в особую единицу с подчинением генерал-лейтенанту Хабалову…
«Такой же, как я, пожилой человек, – опустил голову, отстранённо разглядывая перстень на своём пальце Голицын. – К тому же абсолютно не разбирающийся в политике генерал солдатского типа, коих сейчас пруд пруди в Императорской армии. Те же Алексеев с Деникиным… Хабалов в своё время был прекрасный начальник Павловского военного училища, но теперь это растерявший былую энергию, собственно, как и я, уставший от жизни человек».
– Николай Дмитриевич, а вы что загрустили? – отвлёк его от размышлений Николай. – Выше голову. Вам нечего опасаться. Ежели эти баламуты из Государственной думы чего-либо замыслят против меня и государства, то я оставил вам Указ Сенату об их роспуске.
– Ваше величество, как получил, держу его при себе, – вытащил из кожаной папки заверенный государственной печатью лощёный лист бумаги за подписью самодержца, и быстро пробежал его глазами: «На основании статьи 105 Основных государственных законов повелеваем – Государственную Думу распустить с назначением времени созыва вновь избранной Думы», – убрал лист в папку.
– Вам, Николай Дмитриевич, надлежит проставить дату и дать документу ход, – закончил аудиенцию император.
В среду 22 февраля Николай отстоял заутреню и под звон колоколов Фёдоровского собора, что в Царском Селе, в сопровождении жены отправился на станцию Александровская.
– Какой снег сегодня чистый и белый…
– Ночью выпал. Словно саваном всё покрыл, – сжала рот императрица, увидев, как от её слов побледнел супруг. – Прости. Нервы всё. Вот и говорю глупости, – невесело улыбнулась она. – Зря ты едешь. Родзянко с Гучковым недоброе замыслили… Весь Двор об этом шепчется, а ты, Ники, не слышишь.
– Всё я слышу, Аликс. Как ты помнишь, в девятьсот пятом году я поддался на увещевания и сдал практически выигранную войну, чтоб расправиться с оппозицией. Сейчас на это не пойду. Прежде разобью внешнего врага, а потом разберусь с внутренним. Ну, давай прощаться, любимая. Через несколько дней вернусь… Чего ты волнуешься? Всё идёт как обычно, – начал успокаивать жену. – Как всегда – раздаются звуки марша. Построен Собственный, Моего Императорского Величества конвой, – пошутил Николай. – Как всегда составлено «Дело о путешествии Его Величества в действующую армию», – и в нём список сопровождающих лиц: граф Фредерикс, адмирал Нилов, Воейков, Свиты генерал-майор Граббе и другие. На Деле проставлена дата: «Начато 22.02. 1917». Как вернусь, поставят дату окончания…
– Прости меня, Ники, но сердцем чувствую, что даты окончания не будет… Женщины иногда умеют предвидеть…
В поезде, борясь с предощущением чего-то трагического, Николай читал письмо жены, задумчиво помешивая при этом серебряной ложечкой остывший чай.
«…Только будь твёрд, покажи властную руку… Да хранят Тебя Светлые Ангелы. Христос да будет с Тобою, и Пречистая Дева да не оставит Тебя», – качнулся, когда плавно бежавший вагон неожиданно дёрнулся – состав тормозил у засыпанной снегом маленькой станции.
Отодвинув серебряный подстаканник с резным, тонкого стекла стаканом к хрустальному графину у чистого окна, приподняв штору, оглядел перрон, где на пристанционном базарчике чем только не торговали: « А говорят: голод наступает, – иронично подумал он. – Депутатам лишь бы государя огорчить, – с удовольствием смотрел на бородатого старца с вяленой рыбиной. – Именно таким я представляю Саваофа, – расстроился, когда казак из охраны грубо оттолкнул от вагона старика.
И тут же у самодержца побежали слюнки, когда узрел торговку с мочёными яблоками в глубокой чашке. Поодаль несколько женщин держали в руках крынки.
«Молоком, наверное, торгуют… Или сметаной. А у старухи на деревянном подносе курица отварная… Напрашивается вывод, что меня Дворцовый повар какой-то дребеденью кормит», – вновь качнулся император, когда дежурный по вокзалу трижды ударил в колокол, и поезд, лязгнув сцеплениями, тронулся, оставляя позади станционные постройки, домики, водокачку и пакгауз.
За окном вагона мелькала русская земля. Его, Николая Александровича, Россия.
Утро 23-го было морозным. Миновали Смоленск.
Умывшись, Николай вышел к завтраку в вагон-столовую.
За стол никого из свитских, судачивших за соседними столиками о Ставке и генерале Алексееве, не пригласил.
Быстро и без аппетита глотая пищу, подумал, что следовало бы отварную курицу повару заказать. Поднявшись, общим поклоном ответил на поклоны свиты, мимоходом глянув в окно на заметённую до окон деревеньку и промелькнувшую заснеженную безымянную станцию. Вздохнув, не спеша пошёл в свой вагон.



