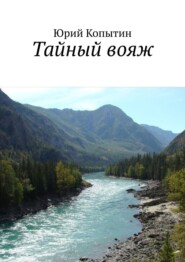скачать книгу бесплатно
– Он говорит, что никогда не видел такого богатства, и коменданта – видать, важный и богатый человек, – перёвел Тархан.
Пётр от души рассмеялся, ведь всё его богатство было в этой шпаге, полученной в награду за храбрость и служение отечеству, а всё что он нажил – так это несколько икон да рублей десять капиталу.
Он попросил горничную приготовить повечерять и, прочитав молитву вместе с Тарханом, пригласил всех к столу.
За чаем Пётр осторожно, подбирая слова, стал подводить разговор ближе к делу:
– А скажи-ка, Емзынак, идут слухи, что у маньчжурцев можно выменять за «мягкую рухлядь» хороших лошадей, и ваши люди таким образом приторговывают пушниной с ними. Вон и ты подарил мне красавца-жеребца. Видать, тоже, небось, знаком с этим делом?
Зайсан, отпив чаю и лукаво улыбнувшись, стал издалека объяснять суть дела:
– В двух днях езды от моего улуса стоят маньчжурские пограничные караулы. Ещё совсем недавно маньчжуры насильно увели на юг соседних со мной улусных людей. Многие, кто не хотел идти, были убиты. До нас они не смогли добраться – непроходимые горы стали стеной на их пути, только наши люди знали проход и тропы через перевалы. Мы всё видели, но ничем не могли помочь бедным соплеменникам[3 - С 1763 по 1765 год алтайцы испытывают на себе новую волну вторжения маньчжурских войск, которые в результате военных действий уводят значительную часть алтайцев, в том числе и новоподданных России, на территорию Китая, надеясь тем самым закрепить своё право на южно-сибирские территории. На требование алтайских зайсанов и командования Колывано-Кузнецкой военно-пограничной линии о выдаче российских подданных, маньчжуры отвечают отказом.].
Много пострадал наш народ. Сначала от джунгар досталось, эти и до нашего улуса добрались – все проходы в горах знали. Тархан помнит, как ясаком облагали – мы тогда молодыми были. Отбирали почти всё, а если что против скажешь – били нещадно. Потом, когда у джунгар началась война с маньчжурами, забыли про нас.
Сидели мы тихо, в постоянной тревоге, каждый день ожидая непрошеных гостей. Хотели было к русским, до Бийской крепости податься, да слух пошёл, что новоприбывших инородцев куда-то вглубь страны отправляют – к маньчжурам ещё страшнее было идти. Вот так прожили мы сами по себе не помню сколько времени: соль закончилась, зерна не у кого купить… Пошли слухи, что кое-кто из наших тайком стал с маньчжурами приторговывать, ну и мы решились попробовать. Взяли с собой толмача, один из наших улусных попал к ним вместе с захваченными алтайцами, потом бежал – по-ихнему понимать научился.
Собрали мы «мягкой рухляди»: лисиц, бобров, соболей – ясак-то никто не брал, вот и накопилось. Для первого раза много брать не стали. Перевалили через перевал и стали пробираться на юг, в сторону Китая. Шли тихо, с опаской, день идём – кругом никого, лишь кости человеческие, обглоданные зверями, кое-где по дороге попадаются. На следующий день, уже к вечеру, спустились в долину, идём и вдруг слышим речь человеческую – смекнули, что монгольцы. Оставил я людей и пушнину, а сам с толмачом отправился к ним: если какое худо сделают – то уж как будет. Подъехали поближе. Увидя нас, они закричали что-то по-своему, тут ещё человек пять подбежало. Стал мой толмач объяснять им, кто мы да что мы.
Призвали они командира. Вышел важный китаец в широком халате и широких шароварах. Говорим ему: «С миром пришли, из-за большой нужды хотели бы пушнину обменять». Как услышал он это – сразу заулыбался, в дом пригласил. Дом был небольшой, внутри одна комната, там же, в углу, была навалена постель. Спрашивает: «А что менять хотите?». Начали перечислять: бобры, лисицы, соболя… Разгорелись у него глаза, крикнул, чтобы чаю подали да коней наших накормили.
Договорились мы, чтобы через три дня встретиться: они с товаром будут – пообещали дать всё, что нам нужно. Не обманули: всё, о чём мы просили, привезли. За соболя хорошую лошадь давали; было у нас восемь собольих шкурок – на восемь монгольских лошадей и обменяли, а остальную пушнину – на чай, соль, муку и много других товаров. Условились, что если какая надобность возникнет, так дать знать, они всё подготовят…
Тархан закончил переводить и взглянул на Петра, как бы оценивая, как тот отреагировал на сказанное. Комендант молчал, но по всему было видно, что рассказ Емзынака сильно заинтересовал его и ему нужно какое-то время, чтобы обдумать, просчитать и дать своё заключение.
Наконец, обдумывая каждое своё предложение, Пётр не спеша стал объяснять суть дела:
– Вот что, Емзынак, после того как я увидел лошадей, которых ты нам подарил, возникла у меня серьёзная мысль: а если и нам попробовать вот таким образом разрешить нашу потребность? Есть кое-что из излишков пушнины – от ясака накопилось. Если обменять это на монгольских скакунов – не помог бы ты нам в этом деле?
– Я всё понимаю. Сколько лошадей вам нужно? Сейчас середина июля – самое время для похода к маньчжурам. С пушниной помогу: соберу по улусам, только пошли со мной человек пять своих людей. Доберёмся до моего улуса, там они останутся, переждут, а я отправлюсь к границе и выменяю для тебя лошадей. Назад, до крепости, помогу табун перегнать. И Тархана отпусти с нами, для толмачества.
– Ну, что ж, толково ты говоришь. Действительно, русским военным на границе опасно появляться, а потребность наша такая: хотя бы на первый случай двадцать лошадей сторговать. Как только завтра примешь присягу на верность государству российскому, так и выступайте.
– Всё сделаю, как хочешь, только просьба большая к тебе есть: разреши как русскому новоподданому в свой улус вернуться. Знаю, что расселяют алтайцев по России, а я вдалеке не смогу – хочу здесь, на родине умереть.
– Верно, имею я указание расселять новоподданых, но твою просьбу исполню. Только для твоей и людей твоих безопасности посоветую тебе ближе к крепости перекочевать, хотя бы на сто вёрст вверх по Катуни – насколько мне известно, нет там маньчжур[4 - Маньчжуры – тунгусская народность, населявшая Маньчжурию. В середине 17 века маньчжуры завоевали Китай и правили там почти три столетия в лице представителей Цинской, или Маньчжурской, династии (1644—1912). В период расцвета в состав империи входили собственно Китай, Маньчжурия, Монголия, Синьцзян и Тибет. Маньчжурами были два могущественных китайских монарха – Кан-си (правивший с 1661 по 1722 год) и Цянь Лун (правил с 1735 по 1796 год).]. Переждёшь это лихое время, а там – не дозволит им Россия гулять по своим вотчинам. Пограничникам на руку торговать с вами, а войсковым отрядам указание дано: всех алтайцев уводить на юг, даже несмотря, что есть среди них новоподданые Российского государства[5 - Добровольное вступление алтайцев в подданство России в 1756 году явилось наилучшим выходом из тяжелого положения, в котором они оказались после разгрома Джунгарии. Войска китайского императора и частично монгольские войска шли по Алтаю с огнем и мечом, сжигая селения, истребляя и грабя население.].
– Хорошо говоришь, комендант, доброе дело для меня делаешь. Емзынак сумеет отблагодарить и в твоей нужде поможет – не только лошадей, но и товару привезём. Брат Тархан рассказал мне, что в большой нужде некоторые служивые живут: беду-то, её никуда не спрячешь.
– Да-а, кроме нехватки лошадей, беспокоит меня очень нужда многих служивых гарнизона, – вздохнул Пётр и, встав со стула, дал понять, что разговор закончен. Оставшись доволен переговорами, Пётр пошёл проводить гостей.
За разговорами они и не заметили, как стемнело. Стояла безветренная июльская ночь, листья на деревьях замерли, словно заворожённые. Яркая луна, освещая тусклым светом окрестности, отражалась жёлтой световой дорожкой на речной глади. И только шорох воды по прибрежной гальке да негромкая девичья песня, доносившаяся со слободы, нарушали опустившуюся тишину.
– Пётр Иванович, – послышался из темноты голос денщика, – а я вас дожидаюсь. Всех прибывших определил на ночлег в избу Тархана – жена его всех к себе взяла.
– Хорошо, Митька, иди спать. Завтра с утра сходи в поварню, скажешь, чтобы хороший обед приготовили, после пойдёшь к Тархану и проводишь всех в крепость. Сам надень парадную форму – шерть[6 - Шерть – присяга на верность государству российскому.] Емзынану будем чинить…
Огромный багрово-красный диск восходящего солнца, поднявшись из-за верховьев Бии, осветил первыми лучами сторожевые башни крепости, купола Успенской церкви с крестами, заигравшими золотистым светом и, через мгновение, площадь с толпой собравшихся служивых и жителей.
Военные в парадных мундирах выстроились по периметру площади, повернув головы в направлении коменданта и группы офицеров. Последние указания командира гарнизона перед началом торжества короткими приказами разрезали утреннюю тишину.
Наконец протрубил горн и двое казаков вынесли медвежью шкуру, аккуратно расстелив её посреди площади. Комендант поднял руку, давая понять, что всё готово к принятию присяги Емзынаком. Кругом воцарилась полная тишина, присутствующие замерли, понимая торжественность момента.
Емзынак, сбросив с себя национальную одежду, в праздничном одеянии русского крестьянина подошел к разостланной шкуре медведя и опустился на колени. Один из офицеров стал с выражением читать слова присяги; рядом стоящий Тархан торжественным голосом, с расстановкой повторял текст; напротив казак с обнажённой саблей и посаженным на остриё куском посоленного хлеба довершал картину принятия присяги. В наступившей тишине отчётливо слышались голоса читающего, переводчика и Емзынака, присягавшего на верность государыне Екатерине и Российскому государству.
Закончив чинить шерть, Пётр и офицеры поздравили новоподданного, после чего они, а также гости с южного Алтая направились в комендантский дом, где уже были накрыты столы. Инородцы, никогда не видавшие такого разнообразия блюд и ни разу не сидевшие за столом, чувствовали себя скованно и стеснённо. Глядя, как ловко управляются ложками и вилками офицеры, они старались точь-в-точь повторять их движения.
После застолья Емзынак испросил дозволения у коменданта отправить назад сыновей с улусными людьми. Пётр распорядился, чтобы их снабдили в дорогу провиантом, подготовили лодки для переправы, и разрешил Тархану с братом недалече проводить гостей, а вечером быть в крепости.
Когда все разошлись, Пётр кликнул денщика и велел найти отца Александра и десятника Кузьму Нечаева. Дождавшись приглашённых, комендант попросил их присесть, отпустил денщика и, в задумчивости расхаживая по комнате, стал пересказывать разговор с Емзынаком.
Молча выслушав рассказ коменданта, отец Александр первым взял слово:
– Я так понимаю, Пётр Иванович, что с помощью инородцев хочешь свою потребность в лошадях справить. Ну что ж, задумка неплохая, только опасное это предприятие: если казаки в руки к маньчжурам попадутся, не знаю, чем всё может закончиться. Большое недовольство у начальства получится, да и таможня ежели узнает про тайный обмен, шуму наделает.
– Ну, казака всегда смекалка выручала, – улыбнулся комендант. – Да и куда маньчжуры супротив них?! А насчёт тайного обмена – так этот поворот я уже обдумал: не дале как весною получил я от кузнецкого воеводы известие, а там, между прочим, написано, что интересуются в Сенате, где сейчас маньчжурские военные отряды находятся, как далеко на юг ушли. Вот воевода и просил меня: как только будет какая оказия в горы – ясак собирать, к примеру, – так тайно выследить, где маньчжуры стоят.
А ещё в Тобольске имеют интерес к новоприсоединённым землям. Хотя двадцать лет назад вошла Телеуцкая землица в состав царства Сибирского, а про край тот в губернии не имеют никакого представления. Доходят до них слухи, что не уходят маньчжуры оттуда, – знают, супостаты, не хватает сил сейчас у России южно-сибирские земли защитить. И ещё чего надумали – ироды! – закопали кое-где в горах каменные знаки с ихними иероглифами, чтобы убедить государыню в исконной принадлежности Телеуцкой землицы Китаю. Да только не поверила российская власть в их задумку, а они всё на своём стоят: «Наша та земля!..».
Так вот, хотели бы в Тобольске увидеть хоть какое-никакое описание этой таинственной для них стороны, да про маньчжур подробнее разузнать. Вот и поручим это всё казакам. Главное, чтобы до таможни не дошла истинная цель похода. А губернское начальство, я думаю, препятствий чинить не будет, даже если и дойдёт слух об обмене, – понимают, как служивому туго приходится без денежного довольствия. Да и об Емельке Пугачёве свежи воспоминания – задумались, наверное, что не от хорошей жизни кой-какие казаки под его начало пошли: ведь сколь народу под его знамёна встало!.. Слава Богу, что здесь, в Сибири, всё тихо-мирно обошлось!
– Да, это ты прав. За холопов да простых казаков он радел – вот и пошёл за ним народ, – согласился отец Александр. – Но сколько невинно убиенных после этой смуты по матушке России случилось!.. Ведь не токмо помещиков, но и из низших сословий семьями убивали вместе с малыми детьми… Вот этого уж никак не оправдать – ни перед Богом, ни перед людьми.
– А с табуном, я думаю, мужики не подведут – сделают всё как надо: никто про обмен с китайцами не узнает, – продолжил комендант.
– Ну, раз так, тогда, с Богом, торговать не грех – не ворованное везёте, да ежели уверен, что казачки? не подведут, – подытожил отец Александр.
– Не подведём, батюшка, – вставил слово молчавший до этого Кузьма Нечаев
– И один в поле воин, если он по-казачьи скроен. Не в таких переделках бывали.
– С тобой, Кузьма, я хотел бы посоветоваться: кого из казаков возьмёшь? – повернулся к десятнику Пётр.
– Я предлагаю четверых: Андрея Шумилова и Ефима Назарова – эти в горах бывали, ясак ходили собирать, Степана Соколова – здоровый мужик и охотник хороший, по следам дорогу прочитает, и недавно прибывшего к нам Фёдора Иванова – пусть покажет себя. На прежнем-то месте, в Московской губернии, тихо да ладно было, а как оно здесь для него? Ну, и отправлю с вами Тархана, а то как же без толмача…
– Да, люди хорошие, – согласился Кузьма.
– Но, Пётр Иванович, если ты не против, то я бы вместо Андрея Шумилова Илью Петрова взял. Он врачеванию способен, да и жена у него, Пелагея, при церкви с лазаретом Стефану Удинцову помогает. Это у них семейное – травки лечебные собирают, а кто занедужит – настоями да снадобьями от хвори избавляют.
– Хорошо, Кузьма, верно говоришь, – одобрительно кивнул Пётр, – лекарь в походе, ох как пригодится!.. Не подумал я, что из тех четверых никто к врачеванию неспособен.
– Да, вот ещё… – с тенью сомнения взглянул на коменданта Кузьма.
– Говори, вижу, сомневаешься в чём-то. На серьёзное и опасное дело посылаю, так что все вопросы сейчас и здесь решить надо.
– Я про Фёдора Иванова хотел бы сказать, – нерешительным голосом начал Кузьма. – Ведь мальчишка ещё совсем, да и в Сибири ещё не обвыкся. Выдюжит ли такой поход, ведь не на прогулку идём… Спрос с каждого немалый.
– М-да… – задумался Пётр, после чего не спеша поднялся и, скрестив руки за спиной, стал обдумывать предложение десятника.
– Ты – командир отряда, тебе решать, кого взять с собой в поход, – твёрдо ответил он десятнику.– Но, послушай меня… Верно ты говоришь: мальчишка ещё Фёдор, казацкого опыта не набрался. Да ведь только видишь ты, что сверху лежит, а я про него немного поболе знаю – хоть и молод Фёдор, а толковый парень. Он и грамоте обучен, а ещё в рекомендательном письме из Московской губернии от полковника Хабарова прописано про Фёдора, что, дескать, есть у парня способности к толкованию местности на бумаге путём рисования и начертания оной. Недавно попросил как-то кузнецкий воевода прислать ему описание окрестностей Бийской крепости, так Фёдор так толково всё срисовал, что кузнецкие диву дались. Если сможешь сам справиться с этим делом аль из гарнизона кому поручить – называй, препятствовать не буду… И ещё вот что: нет у парня мужицкой закалки, а казаку ох как она необходима! Вот и пусть он покажет себя в этом походе. Знаю, есть ещё в гарнизоне казаки под стать вам, любого из которых ты бы взял вместо Фёдора. Но ведь и ему с чего-то начинать нужно, вам-то, сибирякам, оно легче было опыту набраться, чем пареньку из Подмосковья.
Пётр сел напротив Кузьмы и испытующе посмотрел ему в глаза. Десятник, потупившись, тихо ответил:
– Прав ты, Пётр Иванович, возьмём Фёдора Иванова.
– Ну вот, на этом и порешим. Скажу Митьке, чтобы предупредил казаков – пусть готовятся. День на сборы – и в путь, – подытожил комендант, давая понять, что разговор окончен.
Уже в сумерках вернулся Кузьма домой.
– Послезавтра выступаем, – уведомил он жену Лукерью.
– Далече? – вопрошающе взглянула она в глаза мужу.
– В телеуцкую землицу идём, к инородцам… Большего сказать не могу.
– Ну да… – грустно опустила голову Лукерья.
– Дети спят? – кивнул Кузьма в темноту детской комнаты.
– Захар вот только перед тобой уснул, а Анфиска весь вечер капризничала, едва уторкала её.
– Ты уж завтра собери чего в дорогу. У меня-то со сборами весь день занят – с утра делов невпроворот.
Весь следующий день прошёл в сборах. Упаковывали провиант: крупы, муку, чай, вяленое мясо; комендант распорядился выдать ведро хлебного вина: на случай, если вдруг возникнут какие затруднения, вино – лучший товар для расчёта с алтайцами. Сложнее пришлось с лошадьми: казацкие кони, не привыкшие к горам, могли подвести в случае опасности, поэтому отобрали пять лучших лошадей из Бийского гарнизона, используемых для сбора ясака, и взяли тех, что подарил Емзыкан. Сбор назначили у комендантского дома…
До глубокой ночи Пётр простоял на коленях подле своей любимой иконы Казанской Божией Матери, прося за благополучный поход своих посланников. С надеждой смотрел он на добрый и в то же время испытующий взгляд Богородицы, освещаемой едва колеблющимся пламенем лампадки. Да и в избах семейных казаков долго не тушили свечей…
– Тятенька возьми меня с собой, – просяще заглядывал в глаза отцу Никита.
– Тебя ещё там не хватало! – возмущённо отвечала Настасья.
– За хозяина остаёшься, – похлопал сына по плечу Ефим, – за малыми приглядывай, матери по хозяйству помогай.
– А далёко тятенька едет? – послышался детский шёпот из смежной комнаты.
– Ой, далёко-о!.. – ответил ему другой.
– Глафира, Поликашка! А ну-ка, спать сейчас же! – прикрикнула Настасья. – Весь день про тебя расспрашивают – а я и сама не знаю, что ответить… Далеко ли? Надолго? – с тревогой взглянула она на мужа.
– К инородцам идём, думаю, что долго не задержимся…
На следующее утро, едва лишь забрезжил рассвет, комендант уже был на ногах. Казаки, позёвывая, подтягивали вьючные ремни, поправляли тюки с поклажей. Пётр самолично внимательно проверил, крепко ли привязаны мешки с провиантом, хорошо ли укрыт порох на случай дождя, и, убедившись, что всё в порядке, дал команду к походу.
Все вместе спустились к Бии, где казаков уже ждали готовые к отплытию лодки. Утренняя речная прохлада, лёгким туманом упавшая на гладь воды, вмиг прогнала из головы остатки сна.
– Господа, подождите, – с берега вприпрыжку к ним бежал отец Александр.
– Фу, запыхался, думал, что не успею… Вот, возьмите! – протянул он Кузьме аккуратно завёрнутую Библию. – Уповайте на Господа, и он поможет в пути.
Пётр обнял каждого из отъезжающих:
– Ну, с Богом! – напутствовал он казаков.
Казаки расселись в две лодки, Пётр оттолкнул одну, отец Александр другую. Гребцы усиленно заработали вёслами, правя на середину реки…
Провожающие долго ещё стояли на берегу, наблюдая за удаляющимися вдаль лодками и гуськом плывущими за ними лошадьми, постепенно исчезающими в утреннем тумане…
Телеуцкая землица
Стоит подробнее рассказать об этом путешествии. Если к северу от Бийской крепости местность уже не представляла никаких загадок, то к югу лежала всё ещё таинственная и неизведанная телеуцкая землица. После недавно отгремевшей джунгаро-маньчжурской войны территория эта была почти не заселена, местные инородцы в страхе попрятались в труднодоступных метах, а у России после Семилетней войны и войны с Турцией не доходили сюда руки. Этим и пользовались маньчжуры, не желавшие оставлять своих новых владений и, всё ещё надеявшиеся прибрать к рукам этот благодатный уголок, присоединив его к обширной территории Цинского Китая.
…Итак, оказавшись на другой стороне реки, казаки бросили прощальный взгляд на гордо стоящую на берегу крепость и, пришпорив коней, вскорости въехали в густой прохладный сосновый лес. Солнце уже начало подниматься от горизонта, его лучи косо ложились на лесные поляны и, отражаясь в утренней росе, зажигали мириады бриллиантов на зелёной траве. Поднимаясь всё выше, оно пробивалось через хвою деревьев и та, нагреваясь теплом лучей, источала неповторимый сосновый аромат. Всё это успокаивало и навевало безмятежные мысли, от которых путь уже не казался таким трудным, долгим и опасным.
Ехали молча, каждый думал о чём-то своём, только Тархан с братом тихо переговаривались между собой на непонятном для казаков родном языке. Вскоре лес как-то разом закончился, и путники оказались среди лугов: куда ни глянь – кругом было зелёное море травы.
– Вот лошадям-то раздолье – сколько зелени кругом! Видать, хороша землица! – не выдержал Фёдор Иванов.
– Да уж, ни разу не пахана – хозяина ждёт. У вас-то, в Московской губернии, вряд ли сыщешь таких просторов, – ответил Степан Соколов.
– Ну, у нас тоже хлебопашествуют крестьяне: и сено косят, и скот разводят, да только таких вот бесхозных угодий вряд ли найдёшь, – ревностно возразил Фёдор. – Когда теперь попаду туда? – горестно вздохнул он.
– А ты здесь обживайся: женишься, избу поможем поставить, земли хороший надел получишь; охота, рыбалка – чем тебе не жизнь?! – подзадорил его Степан.
Фёдор криво усмехнулся на его слова, так ничего и не ответив.
Солнце жарило всё сильнее, поднимаясь выше и выше над горизонтом; кругом стояла тишина, и только где-то высоко в небе слышалась звонкая песня жаворонка, да Емзынак, привыкший к кочевой жизни, тихо мурлыкал себе под нос какую-то монотонную алтайскую мелодию.
Справа голубой лентой блеснула Катунь, притягивая к себе прохладой воды.
– Может, берегом реки пойдём? – обратился к Кузьме Ефим Назаров.
– Да, оно повеселей будет – по бережку-то. Давай, мужики, правее! – скомандовал Кузьма.
Проехав лугом и пробравшись через заросли облепихи, казаки подъехали к берегу Катуни. Кони сходу, не останавливаясь, забрели по колено в реку и стали с жадностью пить холодную воду. Путники соскочили с лошадей, умылись, вдоволь напились холодной водички и, взбодрившись речной прохладой, продолжили дальнейший путь.
– Ну вот, ещё вёрст пятнадцать, а там, за Федуловкой – заимка Семёна Казанцева, – кивнул на юг Ефим Назаров.
– А кто это? – поинтересовался Фёдор.
– Сын одного из наших, посадских, Ивана Казанцева. Лет этак двадцать назад – я только службу начинал – испросил Иван тогдашнего коменданта Гаррига дозволить ему рыбу ловить да охотничать за рекой Федуловкой. Сростками то место обозвал он.
– А почему Сростками?
– Да, наверное потому, что срослось всё в одном месте: и река полна рыбы, и пашня добрая, и пастбища сочные – что ещё крестьянину нужно… Не побоялся: в аккурат тогда у джунгар с маньчжурами война начиналась. Поставил заимку да потихоньку, акромя рыбалки и охоты, стал хлебопашничать, сено косить, а теперь, вот, сын его. Мы, когда ходили ясак собирать, иногда к нему наведывались.
За разговорами они не заметили, как местность из равнинной стала подниматься небольшими холмами. Лошади, замедляя бег, на ходу хватали вместе с травой ароматную полевую клубнику, красным ковром покрывающую зелёные склоны.
Перейдя через Федуловку, казаки заметили заимку, спрятавшуюся в тени деревьев, неподалёку от Катуни. Спешившись около ладно срубленной избы, путники привязали лошадей, взошли на высокое крыльцо и постучали в двери. Навстречу им вышла полненькая, круглолицая молодая женщина.