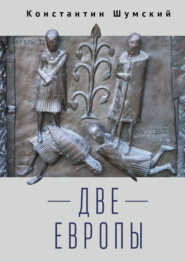
Полная версия:
Две Европы (Очерки Верхнезаморского клуба)

Константин Владимирович Шумский
Две Европы (Очерки Верхнезаморского клуба)
© К. В. Шумский, 2023
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2023
Предисловие
Этим летом я, как обычно, отдыхал на своей крымской даче, в селе Верхнезаморском, недалеко от Керчи. Керчане называют эти места «Пресняком», производя название от железнодорожной станции Пресноводная. Верхнезаморское – небольшая деревенька на вершине кручи, спускающейся своим единственным склоном к берегу Азовского моря, почти в самом центре Казантипского залива. И это самое лучшее место на Земле. Потому что отсюда родом моё детство. Каждый год, гостя у дедушки с бабушкой, я проводил здесь свои летние каникулы.
К сожалению, это прекрасное время безвозвратно ушло. Старики давно умерли. Я вырос. Но в первозданном виде сохранилось само место. Море, солнце, круча, балка и мыс Казан-тип – всё это осталось тем же самым. Продолжает жить и фамильное имение. Здесь и произошли события, которые послужили поводом к изданию этой книги, и во многом стали её содержанием.
Лето – это маленькая жизнь, и время отпусков. И люди из своих душных мегаполисов стекаются к морю. Крым заполняется отдыхающими. Едут и семьями, и по одному, с одним страстным желанием – отдохнуть. Основной поток, конечно, тянется на Южный берег. Крупные людские ручьи струятся также в Феодосию, Судак, Коктебель, Новый свет, Евпаторию. Большой популярностью неизменно пользуется Севастополь. В результате сбежавшие от столичной толкотни индивиды оказываются в условиях мегаполисов, сжатых до размеров небольшого городка. Та же суета, те же цены, та же борьба за место под солнцем. При этом место на пляже не гарантировано никому.
Керченский полуостров в этом отношении оказывается в выигрыше. Народу здесь традиционно мало, а пляжей много. Поэтому друзья, отдыхая на более престижных крымских курортах с жёнами и детьми, частенько навещают меня в моём деревенском логове. Приезжают, правда, в основном почему – то без жён и без детей. Так, по – простому, погостить, пообщаться. И эти встречи иногда получаются весьма плодотворными. Мы в шутку прозвали эти сборища «Верхнезаморским клубом».
Этот год не был исключением. Как только стало известно, что я здесь, пошли звонки. И потянулась в Верхнезаморское вереница одиноких беглецов от курортной суеты. Добраться сюда легко – и станция и трасса рядом, так что в тот же вечер мы уже душили друг друга в товарищеских объятьях. Я как раз тоже был один – мои ещё не приехали. Поэтому отдых приобрёл особый колорит. Рыбалка, море, волейбол, гитара, запечённая и вяленная азовская рыба всевозможных сортов. После обеда – традиционный «адмиральский час». Вечером ходили на кручу «сажать солнце» под шампанское. Закаты тут бесподобные. Ну а за ужином начиналась основная часть программы.
Чем заняться тёплыми летними вечерами в Крыму за бутылочкой марочного портвейна временно холостякующим русским интеллектуалам? Конечно, философией, поиском смыслов. О чём мы только не говорили! Матриархат, патриархат, Запад, Русская идея, ну и, естественно, религия как основа всего. Ребята знали, что у меня есть теория, которую я разрабатываю уже много лет, и всё пеняли мне, что не пишу книгу. Правда, незадолго до этого мне как раз удалось опубликовать несколько новых статей. Но мужчины их ещё не читали. Им стало интересно, и они попросили изложить свою концепцию. Так что я два вечера солировал.
Подвох, однако, был в том, что у одного из приятелей всё это время был включён диктофон. Позже он переслал мне запись и посоветовал её расшифровать. Вот так, собственно, и появилась эта книга. Она, по сути, представляет собой стенограмму – почти буквальное воспроизведение наших разговоров у костра в Верзхнезаморском. Есть, конечно, купюры и небольшая редакция. Текст был разделён на главы. Добавил также ссылки на литературу и закавычил цитаты. Остальное всё правда.
Константин Шумский
Вечер первый
1. Таинство рождения
К.Ш.: Всякое развитие имеет отправной, начальный момент. Это – рождение. Сначала что – то появляется, рождается, а затем уже оно начинает развиваться. То, что однажды не родилось, не может существовать и развиваться.
Ю.М. Лотман особо подчеркивает важность начала как основной границы: «Акт творения – создания – есть акт начала. Поэтому существует то, что имеет начало… Объяснить явление – значит указать на его происхождение… Основной вопрос – не "чем кончилось", а "откуда повелось"»[1]. И коль речь заходит о «рождении», то сразу встает вопрос о «родителях». Кто они? Какова их роль?
Среди перипетий человеческой истории существует один любопытный факт. Переход племён охотников и собирателей к земледелию и скотоводству неизменно совпадает с изменением их социальной организации, а именно – сменой матриархата патриархатом. Внятно объяснить этот странный феномен так никому и не удалось. В основном толкуют о каких – то «производительных силах» и повышении роли мужчин в производстве[2]. Без сомнения, это имело место, но речь идет о смене ментальности, а значит на главную причину таких глобальных изменений эти процессы явно не тянут. Завесу этой тайны может приоткрыть сравнительно недавнее открытие этнографов.
Примерно около середины XX в. выяснилось, что примитивные племена охотников и собирателей, как правило, не видели связи между половым актом и рождением детей. На эту удивительную близорукость диких народов, в частности, в своих знаменитых работах указывают Симона де Бовуар[3] и Юлиус Эвола[4]. Об этом же подробно пишет известный британский антрополог Броснислав Малиновский: «весь процесс введения новой жизни в сообщество лежит между миром духов и женским организмом. Там нет места для какого бы то ни было физического отцовства»[5].
Человек – часть этого мира. И появление чего бы то ни было он всегда соизмеряет с собственным рождением. Дело в том, что охотники и собиратели сами не выращивают ни скот, ни плоды. Они их присваивают, не задаваясь вопросом об их происхождении. Здесь срабатывает «особого рода ментальность – ментальность охотников и собирательниц»[6]. Эта особая ментальность реконструируется при переходе «от изучения охотничье – собирательского образа жизни к изучению охотничье – собирательского образа мысли»[7].
Что фактически видят охотники и собиратели в процессе своей хозяйственной деятельности? Видят они то, что самки животных рожают детёнышей, и никакой самец в самом акте рождения участия не принимает. Параллельно этому земля «рождает» ягоды, фрукты и грибы. Процесс зачатия и посева скрыт от глаз охотников и собирателей. Открытым, явным, а значит единственно существующим является лишь рождение – собственно роды и всходы. В этой логике женщины для рождения детей, подобно земле и самкам животных, тоже ни в ком не нуждаются. Здесь «наблюдается самое настоящее отождествление женщины и земли; в них обеих путем различных превращений воспроизводится постоянство жизни – жизни, являющейся прежде всего способностью к порождению нового… земля – это женщина, а в женщине живет та же неведомая мощь, что и в земле»[8]. Для такого сознания рождение – это одноактный спектакль, в котором принимает участие только один актёр – мать или земля. Отец в такой парадигме просто избыточен. А значит и нет никакого отца. Существует только мать.
Сейчас мы знаем, откуда берутся дети. Именно знаем. Наши дикие предки не знали. Что они фактически видели? Беременность и роды. И вынашивает, и рожает ребенка мать. Это очевидно, и является фундаментальным фактом. Вопрос: почему она рожает?
В рамках очевидности участие отца в рождении детей никак не обнаруживается: «туземцы верят в то, что девушка может оказаться с ребенком и не имея предварительных сексуальных контактов»[9]. А значит ответ может быть только один: женщины рожают, потому что им внутренне свойственно рожать. Свойство у них такое – рожать детей. Когда женщина достигает определённого возраста и внутри нее созревают необходимые условия, происходит процесс самозарождения, и она рожает. И никто другой ей для этого не нужен. Всё что требуется – это здоровый женский организм.
Самые любопытные, естественно, не унимаются и задаются вопросами, пытаясь выяснить, а не было ли каких – то внешних причин для беременности? Что предшествовало родам? Оказывается, очень многое. За долгие месяцы до этого произошли тысячи событий. Женщина ходила за водой, мыла посуду, варила пищу, купалась в реке, собирала ягоды, кормила птичек, участвовала в играх и священных обрядах, болела, гуляла, спала, причём как наедине, так и рядом с другими людьми – мужчинами и женщинами. Какое из этих событий может быть связано с последующим рождением ребенка? Неизвестно. Потому что между всеми этими событиями нет видимой, непосредственной связи. Здесь требуется подключить мышление, чтобы обнаружить невидимые детерминации. Но примитивное сознания им не обладает, поэтому его вердикт категоричен: раз видимой связи нет, то её нет вообще. И не надо строить никаких сомнительных догадок. Такой вот своего рода первобытный позитивизм.
Правда, возникал вопрос: если дети появляются в результате самозарождения, то почему тогда женщины рожают не только женщин, но и мужчин? Зачем они нужны, если они не принимают участия в деторождении? Ответ в такой логике опять же очевиден: мужчин женщины рожают для выполнения определённых, специфических функций – как источник наслаждения, а также в качестве охранников и добытчиков всего необходимого. Ну и ещё для выполнения роли естественного дефлоратора, т. к. по мнению дикарей «девственность технически препятствует оплодотворению посредством духа»[10]. Но это нужно только один раз, ибо «после того, как это однажды проделано… мужчине и женщине нет необходимости сходиться вместе, чтобы произвести ребенка»[11]. Подобное общество – это своего рода пчелиный улей. Есть матка, а есть трутни и рабочие пчелы, обслуживающие матку и ее потомство. «Мужчина» – это вспомогательная функция, помогающая в решении основной, «женской» задачи. И что бы он ни делал, он делает это исключительно для женщины и её потомства.
Такой взгляд на человеческое рождение переносится на весь окружающий мир и становится особым мировоззрением, архетипом – матриархатом. Он базируется на чувственном, эмпирическом восприятии мира, на том, что можно непосредственно запечатлеть. Такое сознание уверено: существует только то, что можно увидеть своими глазами или пощупать своими руками. Вот если я это вижу – оно есть, если я не вижу, значит этого нет и быть не может. Такая своеобразная логика неверующего Фомы: пока, мол, сам не увижу Христа, и не вложу свои пальцы в его раны – не поверю.
Матриархат как мировоззрение – это убеждение в самозарождении жизни и всего вокруг. Всё логично: человек самозарождается в лоне матери, растения самозарождаются внутри земли, и всё в мире тоже самозарождается. Есть только одна субстанция – материнская, собственно материя. Ей внутренне присуще развитие. Материя сама по себе, без посторонней помощи, без внешних вторжений рождает различные явления. Она и порождает всё разнообразие мира, в том числе некое специфическое мужское начало. И весь материальный мир организовывается и развивается сам по себе. При матриархальном взгляде на мир, рождение и развитие – это естественный процесс. Здесь нет никакой энтропии. Здесь всё хорошо. А хаос – это просто некая первоначальная фаза развития.
Но Христос явился Фоме и тот поверил. Нечто подобное случилось и с нашими собирателями и охотниками после того, как они решили стать земледельцами и скотоводами. В какой – то момент они выясняют, что землю мало просто удобрять и поливать. В неё еще надо бросать семена. А скот, оказывается, не размножается сам собою, его надо спаривать. Постепенно в сознании проявляется та самая неочевидная связь между бросанием семечки в землю и рождением плодов, между спариванием и приплодом, между половым актом и рождением детей.
Становится ясно: для рождения недостаточно одного материнского начала. У рождения не одно, а два действия. Первое действие – неочевидное, тихое, скрытое, происходящее за закрытыми дверями – половой акт. И здесь два действующих лица – отец, закладывающий семя, и мать, это семя воспринимающая. Второе же действие – собственно сами роды – осуществляет уже только мать, без участия отца, и именно это действие очевидно всем. Сам ребенок своим криком оповещает окружающих о своём рождении.
Здесь впервые на авансцену выходит отец как участник деторождения. Но какова его роль? Первичная или вторичная? Основная или вспомогательная? Чем он является – концом явления или его фундаментальным началом?
Сперва принимается самая простая и, опять же, очевидная версия: мать предоставляет некую «заготовку», т. е. весь необходимый набор элементов, из которого должен появиться будущий ребенок. Отцу остается добавить одну маленькую деталь – некий недостающий пазл. Папа как бы накладывает последний мазок на почти уже завершённую картину. Кладёт, так сказать, свою вишенку на уже практически готовый торт. Здесь человеческое сознание еще находится в плену у очевидности. Главная роль по – прежнему принадлежит матери. Участие отца уже признаётся, но его номер – шестнадцатый. Это ещё матриархат.
Однако новоиспечённому аграрию не дает покоя один неоспоримый сельскохозяйственный факт: если закладывается пшеничное зерно – рождается пшеница, закладывается горчичное семя – рождается горчица. Т. е. во втором, очевидном акте появляется именно то, что закладывается в первом, неочевидном. Семя выступает как первичное, активное начало, которое диктует земле свою программу, и земля, подчиняясь, обслуживает интересы семени, предоставляя ему всё необходимое. Т. е. первый, скрытый акт определяет то, что когда – нибудь в будущем совершится во втором, очевидном акте. Приходит осознание первенства «отцовского» начала.
Это неизбежно рождает культуру сексуального поведения. С этого момента начинается процесс регулирования сексуальных отношений. Появляется система табу, исчезает промискуитет – беспорядочные половые связи.
В.К.: Почему?
К.Ш.: Да потому что теперь важно было понять, кто заложил то семя, которое «организовало ребёнка». С этого момента главным и, по сути, единственным вопросом рождения становится вопрос об отце. Тем более что вопрос о матери вопросом никогда и не являлся в силу очевидного ответа. Ведь то, что «эта тётя» является мамой ребёнка – это и так всем очевидно, т. к. она его родила. А вот то, что «этот дядя» – его папа, это нельзя непосредственно увидеть. Об этом можно только думать, и в это можно только верить. Отец – это всегда предмет мышления и веры.
Отсюда важный вывод: рождение – это видимый всем процесс, начало которого невидимо. Это начало можно постичь только мышлением и верой. И это касается не только дикарей, но и нас, современных людей.
В.К.: А как же анализ ДНК?
К.Ш.: Все современные способы определения отцовства, включая анализ ДНК, есть научные методы, а не факты непосредственного восприятия. А любой научный метод, в той или иной степени, есть абстракция, и является предметом мышления. К тому же ни один из них не даёт стопроцентного результата. Да и от случайных ошибок и подлогов никто не застрахован. А значит это является предметом не только мышления, но и предметом веры: неполное знание есть, в сущности, незнание.
Начинает формироваться новое, патриархальное, мировоззрение, при котором мышление и вера, т. е. то, что неочевидно, невидимо, начинают главенствовать над чувственным восприятием, над очевидностью. Как оказалось, данная смена дискурса стала мощнейшим цивилизационным триггером.
Этот мировоззренческий переворот и переход центральной роли от очевидного к неочевидному глобален и касается всех сфер, в том числе религии. А.Ф. Лосев, в частности, связывает повышение роли отца с переходом от фетишизма к анимизму, когда вместо обожествления самого идола, который очевиден, обожествляться начинает дух идола, который сидит как бы внутри него, и который неочевиден[12]. Здесь уже доминирует не чувственное восприятие, а мышление и вера, ставящее неочевидное выше очевидного. Почитается уже не сама вещь, идол в своей видимой материальности, а тот дух, демон, который невидим, но внутренне присущ этой вещи. Да, он невидим, но его можно мыслить, в него можно верить. И он первичен по отношению к собственной материальной оболочке.
Конечно, было бы упрощением приписывать абсолютно всем охотникам и собирателям исключительно один взгляд, а всем земледельцам и скотоводам – другой. Речь скорее идёт о двух мировоззренческих моделях – «ментальности охотников и собирателей» и «ментальности земледельцев и скотоводов». Подобно тому как у Макса Вебера шла речь не о конкретных католиках и протестантах, а о двух видах ментальности – католической и протестантской[13].
В нашем случае тот или иной взгляд на человеческое рождение переносится на весь окружающий мир и становится особым мировоззрением, архетипом, ментальностью – «матриархатом» или «патриархатом». Первый базируется на чувственном, эмпирическом восприятии мира, на том, что можно непосредственно запечатлеть. Этому взгляду противостоит патриархальная ментальность, носители которой уверены, что главным в любом развитии является не то, что можно увидеть, а то, что можно мыслить и во что можно верить. Здесь над очевидностью главенствует неочевидное – предмет мышления и веры.
Как бы то ни было, но именно с победы патриархальной ментальности стартует развитие человеческого общества и дикость эволюционирует в цивилизацию. Некоторые современные исследователи даже символически связывают эти две модели сознания с библейской историей Исава и Иакова[14]. Исав, как охотник и собиратель, являлся носителем старой ментальности. И он проиграл своё первородство земледельцу и скотоводу Иакову – носителю новой, более прогрессивной ментальности. В итоге магистральная ветвь цивилизации («богоизбранный народ») пошла по патриархальному пути. В этом вся суть неолитической революции.
2. Глубинный матриархат греческой мифологии
К.Ш.: Эта смена парадигм отчётливо просматривается в греческой мифологии. Как говорил Бахофен, «мифологическое наследие – …манифестация первоначального образа мыслей, непосредственное историческое откровение и, следовательно, истинный, отмеченный высокой надежностью исторический источник»[15]. Именно «миф в своих превращениях становится живым выражением ступеней развития народа, проходя их шаг за шагом вместе с ним»[16].
А.Ф. Лосев разворачивает сложную диалектику греческой мифологии в ее эволюционном развитии: «Вначале человек… все мыслит состоящим из земли или из ее порождений. Это мы и называем хтонизмом… Этот хтонизм в дальнейшем сменяется… тем, что обычно зовется героизмом, героическим веком или героической мифологией»[17]. Эти два основных мифологических цикла – хтонический и героический – отражают два этапа взросления греческого сознания – матриархальный и начально – патриархальный с его «централизацией мифологии вокруг горы Олимп и с переходом от старинной титанически – циклопической архаики к художественно развитому и героическому антропоморфизму»[18].
Хтонические мифы говорят о самозарождении и самоуправлении. Их главное действующее лицо – некое женское начало – «хаотическая мощь Земли, пребывающая в постоянном само-противоборстве»[19]. Это глобальное бесформенное «женское тело»[20] порождает недоразвитых чудовищ и страшилищ, «которые еще не дошли до какого – нибудь чёткого внешнего образа и вполне могут рассматриваться по преимуществу как только хтонические силы, и притом большей частью разрушительные»[21]. Со временем «вся эта стихийно – чудовищная мифология матриархата получает свое обобщение и завершение в мифологии Великой матери, или Матери богов»[22]. Великая мать – это некий колоссальный сгусток энергии, мировой хаос, который сам из себя, естественным образом всё порождает.
Эволюционными наследниками инфантильных хтонических чудовищ стали титаны, одного из которых звали Зевсом. Именно с выступления Зевса начинается героическая мифология, описывающая уже реалии зарождающегося патриархального мировосприятия греков. Перед тем как выступить на борьбу с титанами, Зевс теряет на Крите свой пупок. Этим символическим актом взросления он как бы порывает со своей «матерью» – породившим его хтоническим началом, – заявляя о своем особом, не титаническом происхождении и специальной, «мужской» миссии. Он не «титан», он «герой». Он не снизу, он сверху. Потеряв свой пупок, а с ним и связь с прошлым, Зевс бросает вызов титанам, побеждает их, и из своей бывшей «родины» – мирового хаоса – организовывает олимпийский порядок, примирив все противоборствующие силы.
И вот из былого хаоса рождается прекрасный Космос, известный всем нам по греческой олимпийской религии: «Теперь, и только теперь природа получает у греков то умиротворение и ту поэтизацию, которыми они прославились на все последующие века вплоть до настоящего времени»[23].
Миф, как известно, не выдумка и не сказка. Это образно – символическое описание реальности. И данная история есть прямая аналогия того, как складываются половозрастные отношения у людей. По сути, Зевс поступает как обычный подросток – тот приходит с мамой в кино, но делает вид, что он не с мамой, а сам по себе. Ведь всякий подросток в период полового созревания мнит себя загадкой, «звёздным мальчиком», сошедшим с неба для выполнения какой – то важной миссии. Нет, он не рождён, не вырос снизу, он спустился сверху. Он – «герой», который пришёл, чтобы победить «титанов» и изменить этот мир. А присутствие матери припирает его к стенке вполне реальным рождением. Он стесняется свою мать, потому что она – свидетельство его земного, хтонического происхождения.
Не стоит осуждать юношу. В нём проявляется некий древний архетип, описанный в мифе о Зевсе. Да, каждый мальчик рождён женщиной, но приходит время, и он становится мужчиной. Теперь, по закону жанра, он должен «потерять свой пупок», т. е. связь с матерью. Движимый своей высшей, «звёздной» миссией, юноша покидает родной дом и на чужбине окончательно превращается из «титана» в «героя». Теперь он должен вернуться обратно уже в новом качестве, и выполнить свою миссию – победить «титанов» и организовать свой «олимпийский» порядок. Но он не может вернуться к матери. Вместо этого повзрослевший юноша находит подходящую девушку и женится на ней.
А.Н.: Это поэтому считается, что мужчина ищет жену, похожую на его собственную мать?
К.Ш.: Возможно. Мать для юноши есть прообраз его невесты. Жена – это как бы та же самая сущность, что и мать.
Д.П.: Видимо, бедный юноша подсознательно стремится завершить дело, которое не смог закончить его отец – угомонить мать.
К.Ш.: Такова миссия мужчины. Это миссия «героя» – ему необходимо приобрести полную власть над сидящими в женщине «титанами». Он женится на избраннице и вторгается в её девственное пространство. Там, естественно, живут «титаны». Но они не могут самоорганизоваться, им надо дать смысл, цель, программу. «Титанами» надо овладеть и направить их энергию в нужное русло – на развитие. Женское пространство – это резервуар «титанической» неорганизованной энергии, которое томится, желая стать матерью. Оно ждет своего «героя», чтобы дать ему всё необходимое для выполнения его миссии. Когда происходит зачатие, этот океан бушующей энергии превращается в целостный организм. Женщина становится матерью, и её внутренняя энергия организуется для развития плода.
Зачатие – это и есть соединение цели и программы «героя» с энергией «титанов». В этом соединении рождается новый человеческий порядок – эмбрион. С этого момента мать запрограммирована им, и вся её «титаническая» внутренняя энергия подчинена одной цели – поддержанию и развитию этого порядка. Беременная женщина – это и есть прекрасно организованный «героем» космос.
Во всех героических мифах неизменно действует некий «герой», усмиряющий своевольное «женское», «титаническое» начало. Своеобразным социальным уроком на эту тему выступил миф об амазонках, которых неоднократно побеждали античные герои – Геракл, Тесей и другие.
Смена в греческой мифологии хтонической эпохи героической – не что иное как отражение изменений, произошедших в мировоззрении греков. Матриархальный дискурс у них сменяется патриархальным. Мифы героической эпохи не только отражают ключевую роль мужчины в рождении детей. В своём пределе они говорят об осознании греками необходимости повсеместной организации, и подчеркивают важнейшее значение некоего условного «отца» в зарождении любого материального порядка.



