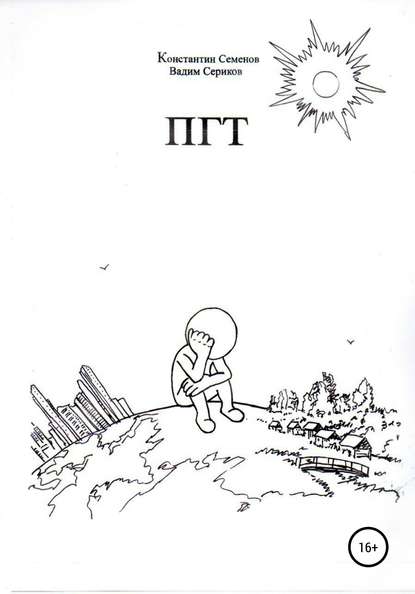 Полная версия
Полная версияПГТ
Если свои раздражают, там будет спокойнее? Ой ли? Нет уж, лучше тут. Ведь уеду, а сам останусь все таким же: раздражительным и циничным стареющим снобом. Вроде бы удобная форма существования. Но люди, они же не дураки. Они потихонечку вычеркивают тебя из своей жизни. И относятся к тебе, как к неизбежному злу. Как к торчащему на дороге пеньку. Потому что холод и высокомерие сначала ранят, а потом надоедают.
Оглядись вокруг и пойми: вот же она, твоя Португалия – здесь, сейчас. Ты давно уже приехал. Но ходил насупившись, закрыв глаза, и чуть не умер, не узнав, что добрался, куда хотел.
"Горький" вернулся в комнату. Нет, все-таки очень похож. Будь сейчас советское время, он мог бы без грима в кино играть. Большие деньги бы заработал, да только нет спроса на советских писателей. Или артистов? А какая разница!
Плойкин выгрузил на стол несколько помидоров-огурцов, половинку хлеба, кусок сала и невероятных размеров бутыль с жидкостью, своим видом сильно напоминавшей самогон. Налил. Выпили. Да, самогон, я не ошибся.
– Так ты думаешь, я – Колькин отец? – тихо спросил хозяин.
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
Французское кино
Такого поворота событий я, честно говоря, не ожидал. Трудным представлялся мне переход к этой теме, я прорабатывал разные варианты, а тут раз – и Федор Иванович сам ставит вопрос ребром. Главное – ничего не испортить.
– Да, думаю, – односложно ответил я.
– А Соня жива? – спросил он.
– В прошлом году умерла.
– Так и думал. Понял, когда на письма отвечать перестала, – Плойкин кивнул на связку писем. – Эх… Чуял я, что с Сонечкой моей в этой жизни не повидаемся. Чуял…
Я-то же ж ее с первого класса любил. А она в мою сторону и не глянет. Веселых любила, языкастых, а я кто? Ни рыба, ни мясо, слякоть дорожная. А я-т когда ее видел, как немой становился. И ноги ватные. И зачем я ей такой нужон был?
Как десятый класс кончили, я ее замуж позвал. Посмеялась, но не отказала враз. Мать ее за меня была, считала парнем серьезным, и Сонечке за женитьбу в уши пела. А мать Соня уважала, тогда с этим строго было. С тех пор и повелось – ни да, ни нет.
А красивая она была – страсть! Парни хороводы круг нее водили. Я-т после школы на железную дорогу работать пошел, она – на Витаминный комбинат. Там все и случилось.
Приехали туда лягушатники станки налаживать. Французы, иттить их за ногу, мать их так. Настоящие прям, из Парижа. С Францией-то тогда мы вроде как дружили, но все равно: капстрана, НАТО, холодная война и прочее.
Французы те в Разумном, конечно, шуму наделали. Было их пять человек. Молодые парни, все, как на подбор: чернявые, высокие. Один только маленький да рыжий. Девки наши до одной слюнями на них захлебнулись. Но отцы-матери не дремали. Строго-настрого запретили даже глядеть в их сторону. А то международный скандал, так его. Да и пара ребят в серых костюмах завсегда вкруг тех французов вертелись. С министерства промышленности якобы. Ага. Знаем мы ту промышленность. КГБ называется.
А Сонечка, значит, как раз в том цеху, где они, трудилась. И такая задумчивая стала. Я хорошо ее чуял, как себя, потому как любил сильно. Спрашиваю: "Сонюшка, что с тобой? О чем грустишь?" Она шутила обычно, а тут рукой махнула так безнадежно. У меня аж сердце ухнуло.
Через неделю где-то прибегает ко мне вся в слезах. А я тогда один жил, мне от ПМС цельную квартиру дали. Хоть и на краю поселка, хоть и в старой двухэтажке, и топить дровами надо, а все ж – квартира!
И вот прибегает она и вдруг – бах! В обморок падает. Ну, я ее поднял, на кровать донес. Она очнулась, говорит: ни с кем, мол, поделиться этим не могу, только с тобой. Понимаю, что жестокая я, но сил нет никаких, люблю его больше жизни. Кого, спрашиваю, любишь-то? Огюста, говорит, француза.
Я как стоял, так и сел. Мне даже не за себя обидно стало, а за нее страшно. Это ж статья! Не знаю какая, но точно статья. Нарисуют, как пить дать. Эти в серых костюмах на такое мастаки.
Стал я ее уговаривать, мол, выкинь из головы, нельзя. Жениться предлагал, уехать на край земли. Она плачет, говорит: прости, хороший, прости, милый, найди себе добрую девушку, а я – стерва, никогда тебя не любила, только мозги пудрила. Вот и поплатилася: кроме Огюста ненаглядного никто не мил.
"А он что?" – спрашиваю. Так он тоже, говорит, меня любит, но навредить боится. Взглядами, говорит, с ним разговариваем да улыбками. А встретиться нам и негде. У меня мама дома с утра до вечера. У него в общежитии народу полным полно. А без него мне, говорит, не жизнь. Уедет, я руки на себя наложу. Самое интересное, что из всех она выбрала того, маленького да рыжего, а не красавцев чернявых. Вот пойди пойми этих женщин, ей-бо.
Не знаю, что на меня нашло. Говорю: а вы сюда приходите. Только попозжее, потемну, от лишних глаз. А я у Петьки буду, просижу у него, сколь надо. С ночевкой могу, к Петьке-то.
Посмотрела она на меня дико. Потом кинулась на шею, кричит: спасаю я ее, мол. Я говорю: да не спасаю, а гублю тебя, сам знаю. Но сил нет смотреть не терзания твои.
Была, была у меня, конеш, мыслишка гнусная. Подумал я о том, что французик натешится, да и уедет. Бросит русскую дурочку. Она мучаться будет, а тут я. Выплачется мне в жилетку, глядишь, и сложится у нас. Стерпится-слюбится.
Сговорились мы, и на следующий день ушел я заранее. Ключ под половицей оставил. Не мог я видеть его счастливую рожу. Когда возвращался, она всегда одна была. Веселая, разгоряченная по комнате летала. Целовала меня в щечку – и домой. И так раза три в неделю. Матери врала, что в клубе, в драмкружке, вечера проводит.
А еще через месяц французы те уехали. Ой, как убивалась она. Он честный оказался, предлагал жениться. Но сложно очень. Матери не простили бы. Она – ударница на ферме, а тут дочка вдруг за буржуя-капиталиста выходит. Видано ли? А то, что он работяга простой, никого не волнует.
Месяца через два сижу я дома. Приходит Сонечка – лица на ней нет. Что, говорю, опять за лихо? Отвечает: ребенок у меня будет.
Я опешил сначала, а потом думаю: вот, Федя, твой шанс. Его и ждал. Гляди – не упусти. Говорю ей: Соня, ты знаешь мою к тебе любовь, выходи за меня. Буду ребенку отцом хорошим, обещаю. Она: нет, недостойна я тебя, не хочу твою жизнь ломать. Буду сама со всем эти жить. Будь счастлив. Потом отдала мне фотографию, на фото – ее француз, сзади – надпись. Говорит: схорони, пусть у тебя лежит, сжечь рука не подымается. А дома мать найти может.
И ушла.
– Какие ж бабы дуры, – Федор Иванович в сердцах стукнул кулаком по столу. – "Недостойна", "не хочу жизнь ломать". Это разве жизнь? – и он обвел рукой свое убогое жилище. Потом, чуть успокоившись, продолжил:
– Пока беременная ходила, почесали об нее языки в поселке знатно. Да и когда Кольку родила тоже. Но как ее ни склоняли, ни уговаривали, отца не назвала. А все-то на меня думали. Уважать перестали, на работе здороваться. Сволочь, мол, заделал ребеночка, а не женится. А я не разубеждал никого. Тогда и припивать начал потихоньку.
А потом в Белгород пришлось уехать, за тетей Люсей ходить. А оно и хорошо – от родных мест недалеко, а вроде и далече. Тут меня не знал никто, можно было все заново начинать. Вот, начал, – он снова обвел руками свое жилище. – Только заканчивать пора пришла. Чую, скоро.
И Федор Иванович замолчал. Задумался.
Пришло время задать вопрос, который мучал меня и как исследователя, и как просто Олега Языкова.
– Федор Иваныч, – сказал я, – а фотография осталась?
– Конечно, – ответил Плойкин очнувшись, – куда ж ей деться?
Он тяжело встал, подошел к комоду, достал фотографию и передал мне.
Это было типичное фото конца шестидесятых или начала семидесятых. Черно-белое, пожелтевшее от времени. С фото на меня смотрел Николай Чувичкин, молодой, в костюме и широкой кепке. Это, конечно, был не он, не Николай, но портретное сходство было поразительным.
Я перевернул фотографию. На другой стороне старательным почерком человека, русский языка которому был явно не родной, выведено: "Дорогой Сонечке с любовью. Будь счастлива! 1971". И подпись "Огюст Ренье".
Огюст Ренье. Огюст Ренье… Где я слышал это имя… Огюст Ренье?!
Не может быть. Таких совпадений просто не бывает. Хотя в жизни бывает все.
Я судорожно открыл папку с бумагами и нашел запись нашей первой беседы с олигархом Чувичкиным. Тогда я скурпулезно записал все, что могло касаться дела. Вот оно – Огюст Ренье. Любит Россию, был там в советское время. Вот, в 1971 год. Я набрал в телефоне запрос "огюст ренье франция бизнесмен" и открыл первую же ссылку с фотографией. Ежкин же ты кот…
У меня было ощущение, что я искал золотую жилу, а нашел Атлантиду, где и так все дома из золота. Мне было пьяно-страшно.
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ
Когда я умер
Голова болела сильно. Состояние мое по возвращении Света оценила, как "грустно, девушка". По ее градации это означало, что был я сильно помят. Но встретила она меня как-то странно. Не раздраженно. Я бы сказал, печально. Может, у нее внутри тоже случились какие-то перемены? А, может, повлияло то, что, прежде, чем провалиться в тяжелый сон в поезде, я позвонил ей и крикнул: "Светка, я тебя люблю!" Я давно не говорил ей этого. Возможно даже никогда, но наконец захотелось.
Обратную дорогу я помнил смутно. Последним ярким впечатлением было сердечное прощание с Федором Ивановичем не перроне белгородского вокзала. Мы обнимались так, словно брат провожал брата на смертный бой. Я очень любил тогда этого чужого мне, в сущности, человека. Я боялся его отпустить. Если бы я его отпустил тогда, я бы просто упал.
Странно, как абсолютно чужие люди могут сродниться за короткие часы ничем непримечательного разговора. Скажете, алкоголь, мол? Пьяная иллюзия близости, которая развеется вместе с наступлением похмелья? Да, не без этого. Но алкоголь просто открывает то, что сидит внутри нас, и, если внутри пусто, откуда взяться душевной близости? Алкоголь просто катализирует то, что случилось бы и так: вражду, злобу, зависть. Но и взаимопонимание, и дружбу. Иногда.
Проводница оказалась другой, но похожей на ту, первую, почти по-сестрински. То ли работа на железной дороге накладывает своей отпечаток, то ли при приеме в РЖД существует определенный фейс-контроль. Она, конечно, попыталась возмутиться и сообщить, что в таком состоянии проезд в поездах дальнего следования категорически запрещен. Тогда Федор Иванович посмотрел на нее одним из своих тяжелых взглядов, от которого она съежилась, как ломтик недельного сыра в холодильнике, и внушительно спросил:
– Дочка, ты сама подумай: обычным людям сразу четыре билета берут?
– Нет, – пропищала загипнотизированная, как кролик удавом, проводница.
– Вот! – поднял палец Плойкин, решительно взял под руку готового упасть меня и так же решительно дотащил до купе.
Там мы еще раз обнялись, Федор Иванович поставил на стол несколько бутылок пива и отбыл по месту жительства. И я отбыл. По месту жительства.
И был день. И была ночь.
Питер настал крайне неожиданно. Незадолго до этого я пошел в баню, где стояла жуткая жара. Я пытался выйти из парилки, но дверь была заперта. Я обливался потом, но ничего не мог поделать. Неожиданно в парилку залетел Ангел и стал кидать в топку новые дрова, отчего мне сделалось совершенно нестерпимо. А потом начал трясти меня за плечи.
Я проснулся. Ангел оказался вчерашней проводницей. Она пыталась меня добудиться, и, судя по ее раздражению, делала это достаточно давно.
– Гражданин, гражданин, просыпайтесь, мы прибыли в Петербург, – раздосадованно говорила она.
В купе было невыносимо душно. Я разлепил глаза, оделся и покинул вагон, с которым за всю дорогу, по причине общей расслабленности, так и не сумел ознакомиться. Надеюсь, в том вагоне не было чего-то особенного.
Заскочив домой помыться-побриться и получив упомянутую Светину оценку, я двинул к "Загребу". Встречу с Чувичкиным мы согласовали еще позавчера, когда я брал обратные билеты. Сообщил ему, что с дворянством все плохо, подробности при встрече. Потом, уже из купе, позвонил еще раз и сказал, что все поменялось, и я везу бомбу. Правда, услышав мой голос, он вряд ли принял эти слова всерьез.
***
"Загреб" был все тот же. И даже пахло из дверей привычно. Это хорошо. Хоть что-то в нашем беспокойном мире должно оставаться неизменным. Здоровый консерватизм вселяет уверенность в завтрашнем дне.
Клеопатра встретила меня гораздо почтительнее, чем в прошлый раз. Чуть ли не с подобострастием. А как же: лицо, приближенное к хозяину. Я мысленно добавил ей кокошник, а в руки дал хлеб с солью и рушником. Картина меня и насмешила, и умилила одновременно. Клеопатра в кокошнике – в этом есть что-то трогательное.
Привычным маршрутом прошли в известный кабинет. Та самая дорогая тяжелая дверь. Вхожу, протискиваясь мимо роскошного бюста. Бюст профессионально недвижим.
***
Олигарх Чувичкин ел суп. "Черепаховый", – почему-то подумалось мне. Но при ближайшем рассмотрении суп оказался обычным борщом.
Николай встал и, пожав мне руку, проговорил с прежними ленинскими интонациями:
– Добг'ый день, Олег Гг'игорьевич. Суп будете?
В этом раз он был напряжен. Может, в ожидании результатов. Может, почему-то еще: мало ли у олигархов проблем.
– Суп буду, – ответил я.
– Ну, что? Что за бомба? У нас все хог'ошо? – он сразу взял быка за рога.
– Смотря что под этим иметь в виду, – интригующе произнес я, глядя ему прямо в глаза.
Я готовился к этому разговору долго. Все десять минут, пока шел в "Загреб". И пока завтракал. И пока мылся в душе. Других возможностей, сами понимаете, не было.
– Олег, – тон Чувичкина стал нетерпеливым, и он перешел на ты, – у меня пг'авда очень мало вг'емени. Давай без этих загадок.
– Хорошо, – сказал я смиренным тоном. Мол, сами за язык тянули, дальше не жалуйтесь, – у меня есть две новости. И среди них нет ни однозначно плохой, ни совсем хорошей. С какой начать?
– С менее значимой, – не задумываясь, ответил олигарх.
– Прекрасно. Докладываю. Между дворянским родом Бужениных и вашей матерью, Софьей Петровной Бужениной связи нет. Никакой. Однофамильцы. Ваши предки были мастеровыми, занимались кожевенным делом.
Брови Чувичкина поползли вверх:
– Это точно?
– Абсолютно. Документы со мной.
Чувичкин некоторое время помолчал, взвешивая. Наконец спросил:
– Олег, я был готов к такому повог'оту. Меня больше удивляет твоя г'еакция: почему ты считаешь эту новость малозначимой? Ведь мои планы, в общем, г'ухнули.
– Не совсем. Насколько я понимаю, вы искали дворянские корни с определенной целью. И на этот счет у меня есть вторая новость.
– Ну-ну, не томи, – Николай стал похож на ребенка, подпрыгивающего от нетерпения перед началом циркового представления.
– Но эта информация может полностью изменить вашу жизнь.
По лицу олигарха прошлась полупрезрительная судорога, как будто от несусветной чуши:
– Олег, мою жизнь уже ничто не может изменить полностью. Слишком много всего было. Так что говог'и.
"Наивный, – подумал я, – я тебе слету назову три вещи, которые могут изменить твою жизнь до неузнаваемости: нож, онкология, автокатастрофа." А вслух сказал:
– Вы знаете Огюста Ренье?
– Конечно, я же г'ассказывал тебе о нем в пег'вую нашу встг'ечу.
– А в лицо знаете?
– Да знаю, конечно, мы встг'ечались несколько раз. Пг'ичем тут это-то?
– Это он? – и я картинным жестом выложил на стол фото, которое отдал мне Федор Иванович.
Николай некоторое время смотрел на фотографию. Потом сказал:
– Да, это он. Но сильно моложе. И на меня в юности похож, надо же. А откуда…
– А вы переверните.
Чувичкин перевернул фотографию, прочел короткую надпись, и лицо его стало белым. Настолько белым, что на нем даже проступили веснушки. Я даже начал бояться, что его хватит удар, и я буду единственным виновником.
Наконец он нашел в себе силы спросить, обреченно, уже догадавшись обо всем, уже не сомневаясь, какой ответ получит:
– А кто это – Сонечка?
– Это ваша мама, Николай.
– А Огюст…
– Ваш отец.
***
После первой выпитой нами бутылки виски Чувичкин перестал торопиться. У меня создалось ощущение, что торопиться он перестал совсем. Пожизненно. Что-то важное произошло в нем, показалось мне тогда.
Хотя, может, и нет. Олигархи не меняются. "Мою жизнь уже ничто не может изменить полностью".
Как и раньше, пели караоке. "Взвейтесь кострами". "Где ты моя, черноглазая, где, в Вологде-где-где", "Мы – дети галактики".
Потом Чувичкин велел поставить "Твой папа – фашист". Не попадая в музыку, спел первый куплет и заплакал. Я плакать не стал, а позвонил Свете. Пригласил ее в ресторан, в "Загреб". К моему удивлению, она пришла. Была нежна и заботлива.
Николай при виде дамы воспрял духом и потребовал шампанского с клубникой. Но Света сказала, что в это время суток предпочитает гречку с салатом. Что мне нравится в моей жене, так это за бытовое остроумие.
Потом Света забрала меня домой. Мы шли по Загородному, по Шаумяна (Света называет ее "улицей шоумена"), по Гранитной. Когда пришли, я сразу лег спать.
Во сне мне было удивительно легко. Потому что я умер. И, наверное, в Рай попал. А куда же еще после жизни попадают? Только в Рай. Глаза у меня закрыты, изнутри щекочет, бурлит. Чувство, что я дома. Не видно ничего, а чувство есть.
Отрываю глаза и вижу себя. У меня сбиты коленки, босые ноги – в грязи. На мне какие-то несуразные штаны на лямках. Рубашка спереди завязана узлом: пуговиц-то нет. В руке – палка. Самая лучшая палка в мире. Кривущая, с рогатиной на конце.
А еще я вижу Его. Своего самого лучшего Друга. У него чумазое лицо, глаза горят радостью, чуб торчит, коленки сбиты, как у меня. Задыхаясь от восторга, Друг говорит: "Слушай, я знаю где есть огромная лужа. И в ней – вот такие лягушки!" И он показывает их размер, раскинув руки в стороны. "Побежали туда?"
И мы бежим вдвоем по пыльной дороге, держа в руках палки. И что-то рассказываем друг другу. И смеемся. А где-то вдалеке уже квакают огромные лягушки в большущей зеленой луже. И вечернее ласковое солнце светит нам в затылок. И впереди у нас – целая вечность.
Эпилог
С тех событий прошли два года.
Я все так же работаю в архиве, хотя в этом нет большой необходимости. Работаю… как это говорится? По велению сердца что ли? Да, по велению сердца работаю я.
Олигарх Чувичкин сделал мне в своих кругах какую-то немыслимую рекламу. Расписал меня друзьям-богатеям этаким архивным суперменом. Бетменом метрики и папки. Архивменом, вот ! Богатые и очень богатые люди, пресыщенные другими развлечениями, косяком пошли ко мне за родословными.
Николай периодически предлагает мне бросить госслужбу и отрыть фирму. Пятьдесят на пятьдесят. Его финансирование, мои идеи. Но я пока держусь. Почему-то мне кажется, что в моем дорогом РГИА я нужен. Может, я ошибаюсь. Но мне приятно так думать.
Однажды я задал Чувичкину беспокоящий меня вопрос:
– Николай, а почему вы не смените фамилию на Буженин? Имеете полное право.
Он ответил:
– Так это же все визитки пг'идется пег'еделать.
И улыбнулся по-ленински. С прищуром.
Где-то через месяц после моего возвращения Чувичкин съездил в Белгород. Пробыл он там два дня. Вернулся вместе с Федором Ивановичем. Купил ему небольшую квартиру на Лиговке, недалеко от Волковского кладбища, где была похоронена Софья Петровна. И взял работать охранником в центральный офис.
Я заходил к Федору Ивановичу, чаи погоняли. Плойкин бросил пить, расцвел, пополнел, и напоминал Максима Горького уже не так сильно, как раньше. Тем более, он сбрил усы и сделал короткую модную стрижку. Я аккуратно попытался поинтересоваться его личной жизнью. Федор Иванович ответил, что вопрос этот для него закрыт. Больше я не приставал.
Зоя Павловна Жуковская ушла в монастырь. Вот так взяла и ушла. Пока послушницей, но, вроде, готовится к постригу. Она всегда была верующей, но я не думал, что настолько. Ее должность предложили мне. Я, конечно, отказался. Никто и не настаивал.
На место Жуковской посадили сотрудницу из нашего отдела, молодую, но толковую. Ну, как молодую. Для меня сейчас все женщины до сорока – девочки. Ну и прекрасно. Раньше вокруг меня большинство людей были пожилыми, а теперь все больше и больше молодых. В старении определенно есть свои преимущества.
Отца Виталия перевели в Петербург, настоятелем большого храма в районе новостроек. Я периодически вижу его по телевизору. Говорит хорошо: ясно, доходчиво. Шутит.
Танюня вышла замуж. За бывшего подполковника чего-то там, а ныне директора местного архива КГБ. Надеюсь, у нее все замечательно. Тракторист Прохор сам взял самоотвод. Сразу после нашей встречи он явился к Тане и сказал, что жениться передумал. Разные, мол, люди и все такое.
Музей Виолетты Геннадьевны сильно разросся и переехал в отдельное здание. Помогли мои связи в определенных кругах и деньги Николая Чувичкина. Она теперь его директор и хранительница своих бумажных сокровищ. Замуж пока не вышла, хотя всё не так однозначно.
Гошина лесопилка работает, как и работала. Георгий, естественно, захлебнулся в инвестициях олигарха. "Узбеки" перестали пилить доски, и пилят сразу деньги. А то девать их некуда. Шутка. Никаких инвестиций не воспоследовало, да и богатей с часами больше не объявлялся. Но , кстати, по рассказам Лехи-депутата, который был зван на свадьбу, она состоялась точно по графику, и никто ничего особенного в отце невесты не заметил. Постарались, видимо, врачи с лечением бланша. Озолотились поди, эскулапы!
Сразу после моего возвращения у нас с мастером Димой завязалась активная переписка. В письмах он в обычной метко-ироничной манере рассказывал про односельчан, про их прошлое и настоящее. ПГТ продолжал жить своей маленькой, но насыщенной жизнью. В письменном исполнении рассказы Дмитрия выглядели еще веселее. Мне было жаль, что читаю их только я.
И внезапно меня осенило. Я связался с Димой и предложил нам вместе написать книгу. Он покобенился для вида, но предложение принял. Тем более, половина будущего произведения в его письмах уже имелась.
Сюжет решили придумать новый. Истории про Чувичкина и его дворянство все равно никто не поверит. Да и не очень это… как там по-французски? Не очень это камильфо. Конфиденциальность и всякое такое. Только тссс… Это пока тайна.
Что касается Огюста Ренье. Честно говоря, развязка этой истории покрыта для меня мраком. Николай при встречах наших данную тему старательно обходит стороной. Знаю только, что контракт с французами фирма Чувичкина проиграла. Конкуренты победили. Из чего я делаю вывод, что Николай не стал торговать родственными связями. Это, безусловно, делает ему честь. Хотя кто их, богатых этих, разберет.
Еще знаю, что недавно Чувичкин съездил в Париж и вернулся оттуда окрыленный. Позвал нас со Светой в "Загреб". Жена не смогла, а мне отказаться было неудобно и пошел.
Клеопатра меня не встретила. Она вышла замуж за одного из друзей Николая и, конечно, перестала работать. Без нее консервативный интерьер ресторана немало осиротел.
В "Загребе" мы с олигархом, по сложившейся традиции, до пяти утра пели "Взвейтесь кострами". Чувичкин говорил, что нигде так не отдыхает, как здесь, со мной. И еще он тогда сказал:
– Понимаешь, каждому человеку нужно обязательно знать, что на свете есть кто-то, г'ади кого ты живешь. Г'ади кого стоит стаг'аться, дег'гаться, сообг'ажать, кг'утиться. Иногда это человек, иногда – животное. Для кого-то – Бог. Не столь важно. Главное – знать это.
Его слова меня насторожили. Надеюсь, Чувичкин не пойдет по стопам Зои Павловны, в монастырь. Хотя жизнь разучила меня удивляться. И потихоньку учит любить.
А Света родила мальчика. Большого, четыре триста пятьдесят. Назвали Федором. Федором Олеговичем Языковым.
<<<<*>>>>



