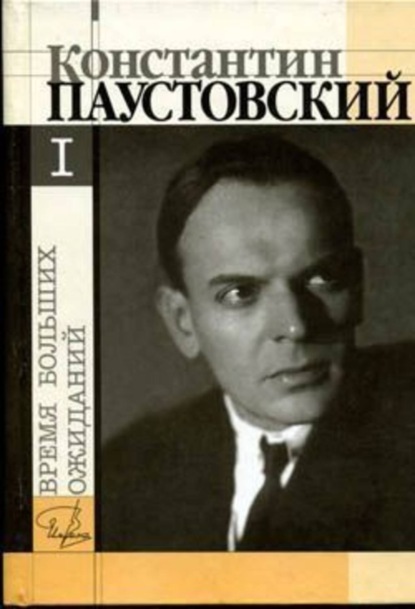 Полная версия
Полная версияБросок на юг
На днях приедет в Тифлис с женой на два-три дня мой большой приятель Борис Дмитриевич Ильинский – человек веселый, душевный, настоящий москвич, весьма близкий к издательским, литературным и журнальным крутам. Он зайдет к Вам. Он едет в Тифлис по делам, но, главным образом, чтобы накачаться кахетинским, и потому я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы пошатались с ним по хорошим, типичным духанам. Сводите его «Над Курой». Денег у него много, он – наш, и потому можете пить на его [нрзб.]. Кстати, он может рассказать Вам подробно о Москве и обо мне, буде пожелаете. Жена у него чудесная. Напишите мне о себе, о Вано, обо всем подробно. Часто, очень часто вспоминаю с Фраерманом Вас и Тифлис. Фраерман здесь – работает в РОСТе. Там же работает Урланис.
Пишите. Продолжаете ли работать в «Заре», как живут Ваши, встречаете ли наших «гудковцев», Зданевичей? Если увидите дядю Колю, Чегиса или Чекризова, то передайте им мой адрес, – пусть напишут. Адрес: Сретенка, 26, кв. 9 Высочанского, мне. Телефон: 1-39-25.
У меня грандиозные планы на будущий год, но об этом напишу позже.
…Привет всем. Привет Евдокии Мартыновне и девочкам, и Рубену. Привет мацонщикам и кацо, и Головинскому, и кротким ишакам, и тифлисскому зною. Если бы знали, как все это стало милым и родным. А главное, – здесь паршивое, поддельное и дорогое вино, и нельзя каждый день пить. Вы понимаете? Фраерман даже заболел от этого черной меланхолией, а я просаживаю 1/2 всех денег на вина «из государственных подвалов Армении». Всего, всего хорошего. Пишите мне.
Ваш К. Паустовский
Валерии В. Зданевич (Валишевской) в Тифлис (Москва, 20 августа 1923 года)
Меня несколько дней не было в Москве. Фраерман передал мне сразу три Ваших письма. Два радостных и одно очень печальное. Вышло нехорошо. Вы спрашиваете, маленькая, что делать? Во-первых, мои письма никто и никогда, кроме Вас, не должен читать. Они слишком чисты и интимны. Во-вторых, Вы можете просто сказать Кириллу, что это письма от человека, который Вас любит, можете даже сказать, что от меня, но что показать их кому бы то ни было Вы не хотите и не можете, т. к. любовь к Вам, как и всякая любовь, слишком больная и слишком радостная вещь, чтобы говорить о ней даже мужу. Мое имя Вы можете назвать, если это будет нужно. Страшного для меня в этом нет ничего. Что обо мне будет говорить К.[ирилл] Михайлович] или все обитатели квартиры в Кирпичном переулке, – для меня крайне безразлично. Я иду своими путями и не привык считаться с чужим недовольством. Я принимаю все на себя, – в этом смысле Вы и можете говорить с Кириллом.
Мне очень больно, что Вы так тревожитесь и мучитесь. Вы не хотите, чтобы я приехал в Тифлис? Я понимаю, что особенно теперь это будет для Вас связано с массой неприятного и мучительного. В Тифлис я не приеду. Немного досадно, потому что я не так давно получил билет до Тифлиса и мог вырваться на 10-14 дней из Москвы.
Теперь – вот что. На днях я уезжаю в Петроград, а оттуда, вероятно, в Мурманск (Полярный океан). Поэтому – не волнуйтесь, если долго не будет писем. У меня скверное настроение, и я хочу побыть в одиночестве.
Не сердитесь, маленькая и стройная. Напрасно, совсем напрасно Вы полюбили меня. Я ведь сумасшедший.
Ваш мальчик
Наталья Навашина-Крандиевская. Фрагменты из книги «ОБЛИК ВРЕМЕНИ»
Красивая Валерия, стройная девушка с каштановой челкой, описанная К. Паустовским в «Броске на юг», была очень хороша собой и талантлива. В шестнадцать лет выходит замуж за Кирилла Зданевича, только что вернувшегося с фронта Первой мировой войны. Мне с нежностью Валерия Владимировна рассказывала о своей свекрови Валентине Кирилловне, грузинке, маленькой, очень доброй, ласковой, прекрасной хозяйке. Многому научилась от нее Валерия. Родив сына, очень похожего на свекровь и мужа Кирилла, она передала его в руки бабушки. Потом сокрушалась, что его сильно избаловали. Всю свою жизнь Валерия Владимировна ничего не знала о сыне, росшем в Тбилиси. Уже только когда он стал взрослым, женатым человеком, шофером, она встретилась с ним, будучи сама глубокой старушкой. Но никакой близости у матери с сыном не получилось. Жизнь прошла врозь, разные мироощущения, другая среда – словом, чужие люди.
…Михаил Сергеевич Навашин был уже дважды женат, когда увлекся в Тифлисе Валерией Валишевской, подругой своей сестры Татьяны. Натерпевшись от тяжелого нрава нудного Кирилла Зданевича, юная Валерия теряет голову от красавца-искусителя Михаила Навашина, а тот, по обыкновению не задумываясь, покидает молодую жену с новорожденным сыном и уезжает с новой подругой в Москву, где жил его старший брат Дмитрий с семьей. Дмитрий был полной противоположностью Михаилу не только внешне: однолюб, общительный, всем старался помогать. В то время он занимал крупный пост в финансовом мире и, имея две квартиры, сразу устроил новоиспеченных молодоженов в одной из них. Какое-то время прожив в Москве, Михаил Навашин был приглашен по Рокфеллеровской стипендии в Америку. Защитив в Калифорнийском университете докторскую диссертацию, пробыл там вместе с женой Валерией два года.
…Еще в Америке Михаил Сергеевич получил письмо – объяснение в любви от своей сотрудницы Е. Н. Герасимовой. Валерия тогда только посмеялась, не придала этому значения. Однако по возвращении она стала замечать активное ухаживание этой молодой сотрудницы за мужем. Так длилось какое-то время. Но «гордая полячка», властная и бескомпромиссная, решила положить этому конец – благо у нее тоже возобновился роман с К. Г. Паустовским, с которым она познакомилась еще в Тифлисе. Константин Георгиевич все чаще появлялся на Пятницкой, 48.
Навашины разошлись весьма мирно. Сережа остался с отцом, опять тоскуя по приемной матери, такой веселой, заботливой, деятельной.
Вдруг получает письмо из Крыма. «Если хочешь, приезжай к нам», – писала Валерия Владимировна. Получив разрешение отца, который никогда не питал привязанности к своим детям, он прибыл в объятия заботливой Валерии, чтобы остаться с ней навсегда.
Валерия Владимировна прекрасно чувствовала цвет, декоративный дар ее сказывался во всем. Она интересно рисовала. Создавала картины из сухих цветов. В кухне во время войны, чтобы как-то украсить жизнь, расписала стену огромным стилизованным букетом цветов и фруктов в корзине. Один цвет поддерживался другим, у кресел карельской березы сиденья обтянуты зеленой китайской чесучой – рядом с красными стенами они необыкновенно играли. И все так – один цвет дополнял и поддерживал другой, все создавало богатую цветовую гамму единой гармонии.
…Моя свекровь часто вспоминала К. Г. Паустовского того периода, который им описан в «Броске на юг», где она изображена Марией, их поэтически недосказанные отношения в старом Тифлисе. Потом, много позже, они встретились в Москве и разорвали свои прежние супружеские узы. Жизнь с Михаилом Сергеевичем оказалась не по ней, а поездки, встречи с новыми людьми, литературный труд К. Г. Паустовского стали ее настоящей интересной жизнью. Эта жизнь, быстро промелькнувшая, даже после разрыва не оставила у нее никакой желчи и обиды. Были, конечно, кое-какие неприятные моменты при расставании, – это можно понять, но в основном Валерия Владимировна вспоминала только самые светлые их дни в Солотче, под Рязанью, в Москве, Крыму на севере России.
ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ... Комменарии Вадима Паустовского
1
Во время плавания с командировочным заданием и удостоверением одесской газеты «Моряк» из голодной Одессы в Сухум отец постоянно посылал в редакцию свои корреспонденции. Одна из них малоизвестна. Она ни разу не публиковалась в книгах и не перепечатывалась в журналах и газетах, в «Моряке» опубликована 7 марта за подписью К. П-ский с весомой авторитетной пометкой: «От нашего специального корреспондента из Новороссийска».
Статья заслуживает внимания, в ней еще дышит одесский «ильфо-пе-тровский» колорит. Во всяком случае при описании концертной бригады невольно вспоминается небезызвестный автопробег с «Антилопой Гну».
Мое знакомство с подшивкой краевой газеты Черного, Азовского и Каспийского морей в Одесской научной библиотеке, как я уже говорил, не прошло бесследно.
ПАРОХОДНЫЕ КОНЦЕРТЫ
(Фрагменты очерка «Серебряные горы»)
Весь день стояли в Новороссийске – этой российской, измученной вечными норд-остами столице. Пассажиры бегут на базар – покупать дешевых здесь копченых «рыбцов» и галеты. У деревянной пристани стоит американский миноносец – «236», но к нему не подпускают на пушечный выстрел. Извозчик торгуется с вылощенным американским офицером – просит в город 300 тысяч. Американец недоумевает и дает 200. Собирается толпа. Вечером срывается норд-ост и тяжело гремит над городом, сдувая с палубы последних пассажиров в переполненную кают-компанию.
Здесь идет пароходный концерт. Почти на каждом пароходе вымо-жете увидеть все одну и ту же компанию артистов, назначение которых сводится к устройству на пароходах, в тесноте, среди больных, давки и детского плача – концертов. Эта труппа – столь же необходимая (по-видимому) и легальная организация на пароходе, как и машинная команда, капитан, его помощники, матросы. Их возят бесплатно, они занимают каюты, дружат с наглой буфетной прислугой, напиваются, бегают в портах по «срочным делам» на базары иустраивают «концерты в пользу голодающих» – смесь из скабрезных куплетов, еврейских анекдотов и румынского оркестра из какого-то сухумского духана. Голодающим,по словам существующей на пароходе специальной комиссии, концерты эти дают крайне мало, почти ничего. Простой сбор дал бы больше.
Начинается концерт и стихают многочисленные картежники, которые режутся в карты с утра до поздней ночи. В каюте шумно. Стоит веселый гогот.
– Даешь «советскую свадьбу»! – кричит группа военморов. – Даешь «Абрашу»!
Жирный, невероятной толщины задыхающийся артист («жертва войны, революции и Поволжья» – по словам конферансье) поет о луне, о парочках и растущих у кого-то рогах.
– Даешь «Машу»! – входят в азарт военморы. – Валяй, Вася, по-нашему, по-одесски.
Но совершенно неожиданно оркестр (скрипка, виолончель и контрабас) фальшиво играет «Интернационал» и концерт кончается.
А норд-ост сотрясает палубу и ночь вся дрожит в ледяном холоде звездных лучей, в ясности зимней ночи.
2
После расшифровки дневников и прочтения писем отца, относящихся к его пребыванию в Сухум-Кале, стало ясно, что первые дни своего пребывания в Сухуме К Г. Паустовский провел в доме Александра Исааковича Германа-Евтушенко на горе Чернявского. С Герман-Евтушенко мои родители, как оказалось, познакомились в Одессе и его заботами, как секретаря Союзов кооперативов Абхазии, были приглашены в Сухум. Нынешний директор Московского музея-центра К. Г. Паустовского несколько десятков лет назад выяснил в сухумских архивах истинную хозяйку дома № 47 в Горийском переулке. Ею оказалась вдова Каролина Георгиевна Герман, которая почила в 1923 году в возрасте 65 лет.
Об этом доме также сохранился репортаж отца из Сухум-Кале для газеты «Моряк» (1922 г., 5 мая). Один-единственный раз он был перепечатан в журнале «Новый мир» в посмертной подборке очерков К. Паустовского «Из разных лет», подготовленной Львом Абелевичем Левицким. Для читателей «Броска на юг» он, мне кажется, представит несомненный интерес.
ИЗ ГОРНОГО ДОМА (Фрагменты)
От нашего специального корреспондента
В белом горном доме с низкими потолками – тонкая тишина. Си-нимлъдом сверкают, как только что расколотый сахар, тяжелые горы. Золотым дождем цветет за оконцами пряная мимоза, и воспаленное солнце ложится в тусклое, задымленное море.
Горный дом уже стар, и в широких щелях полов потрескивают по вечерам сердитые скорпионы. А дряхлые обитатели дома еще помнят времена, когда Абхазия была полна абреками, когда горцы спускались с гор и штурмовали заросшие плющом прибрежные форты, когда солдаты сотнями умирали от горячки во влажных, тропических лесах, времена лермонтовские, полузабытые, но еще свежие в преданиях и памяти горцев.
Фантастический край. Здесь рядом леса пальм и кактусов и заседания революционных комитетов под старыми дубами, причем все члены комитета голосуют и говорят, не слезая с поджарых коней, гортанно перекликаясь и теснясь лошадьми в одну подвижную, темную массу; рядом скрип арб и лошадиные черепа, висящие на всех заборах от дурного глаза, и тут же – ослепительный электрический свет, заливающий широкие сельские улицы, съезды Советов, протяжные гудки иностранных пароходов, кофейни «знаменитых персидских кофейщиков», пестро расписанные трапезундские фелюги, на которых седые турки кипятят кофе в медных кастрюлях-наперстках, плакаты, восточная майолика, князья, перед которыми до сих пор сходят с седел и касаются рукою земли, ажиотаж, лиры, фунты, грузбоны, бязь, кукуруза, богатые лесные концессии на рекеБзыби, взятые Стиссеном и Рокфеллером, непочатый край, дикие козы, скачущие по улицам, и восторженный рев лопоухих пушистых ишачков.
Край фантастический, пестрый, богатый, но богатства его еще сырые, нетронутые, не вырытые из вечно влажной земли.
Россия, голод, то напряжение и мучительные по непосильной работе дни, что переживаются там, за снежными хребтами, вся громадная, неуловимая жизнь федерации – все это для здешних людей «заграница», что-то почти нереальное.
Но все чаще в ленивый звон здешнего базара, в винный запах духанов, в беспечное щелканье нард и монотонный такт лезгинки, которую танцуют по вечерам перед дверьми кофеен замкнутые «башлычники»-горцы, все чаще в эту покойную и безумную жизнь просачиваются напоминания оттуда, из-за гор.
Со снежных перевалов не приходят, а приползают изможденные, полумертвые люди с обмороженными ногами, беглецы от смерти с отупелой нечеловеческой тоской в старческих глазах. Набрасываются на хлеб, на здешнее сало, на горный сыр имолодое вино иумирают.Не так давноумер-ло несколько человек, высадившихся с пришедшего из России парохода.
Все чаще приезжают экспедиции из Крыма, Кубани за кукурузой. Они не меняют ее на товары, не покупают, а вымаливают. Дрожащими голосами они перечисляют товары, которые привезли для обмена. Везут все, что осталось, – домашний скарб, чуть ли не детские платьица.
Экспедиция керченских моряков привезла две швейных машины, микроскоп, мотор, два биллиардных стола, какое-то платье, немного мануфактуры, собранной среди моряков, картины, ковер. Все это не нужно здесь, и до слез больно смотреть на седую трясущуюся голову представителя этой экспедиции, прекрасно знающего, что все это не нужно, что хлеба за это не дадут, что вывоз запрещен и на пристанях отбирают даже фунт сахару.
Эти ходоки от обреченных людей преследуют, их не можешь забыть, не можешь понять все то, о чем они говорят, и только где-то в глубине души вдруг что-то оборвется, и станет холодно и страшно.
И все думы о тех, кто остался там. Здесь не говорят «где», говорят – «там», и сразу все как-то замолкают. Там – в России, где плачут, бьются и мучаются из-за корки хлеба, в России, от которой не оторвать мучительных мыслей.
3
В комментариях к «Времени больших ожиданий» я уже выражал свое удивление по поводу истинности службы отца в одесском Опродкомгубе. До тех пор, пока исследователи творчества Паустовского не положили передо мной блеклые фотокопии документов с печатями, я полагал, что это учреждение с трудновыговариваемой аббревиатурой – чистые выдумки отца. Подобных забавных небылиц мы наслушались от него вдоволь. К этому ряду выдуманного я относил и некоторые фамилии персонажей его книг. В первую очередь ставил под сомнение главную героиню романа «Блистающие облака» Нелидову и архитектора Гофмана из рассказа «Московское лето». Кстати говоря, Нелидова встречается и в «Броске на юг». В этой повести она фигурирует в качестве госпожи, прибывшей в Новоафонский монастырь «отдохнуть от мирского безобразия и скверны».
Каково же было мое удивление, когда, разбирая архив отца, наткнулся на письмо к нему от Зинаиды Леонтьевны Нелидовой из Сухума. Жизнь оказалась значительно богаче и интереснее предполагаемой: моя мама вместе с Зинаидой Леонтьевной поставила в Сухуме детскую оперу «Красная Шапочка» на музыку Цезаря Кюи. Костюмы и художественная часть постановки были возложены на мою маму, а балетную постановку осуществила Нелидова. К счастью, в семейном архиве сохранилась афиша премьеры 2-го гостеатра, спектакль состоялся в пятницу 21 июля 1922 года в исполнении детей, а рецензию на премьеру написал отец, но, увы, газета с рецензией пока не найдена.
Зинаида Леонтьевна хорошо знала немецкий, французский и английский языки, сохранила до конца дней тягу к литературному труду. Во всяком случае она в одном из писем к отцу вспоминает тот знаменательный 1922 год, «когда мы с Бабелем рылись в „Тысяче и одной ночи“ на французском языке» для переложения книги в пьесу.
В «Броске на юг» завуалированно фигурирует и семья Нелидовой. Вдумчивый, дотошный читатель заметит в дневниках Паустовского – они приведены сразу после настоящего послесловия – «сухумские» записи: «Апполинария Фроловна, бабушка, котенок, Трезор – особый милый быт…» и «Нелидова с няней… Вечером на пристани. Апполинария Фроловна». Для писателя нет мелочей, ничто не проходит для него бесследно, и вот появляется в повести фраза некоего Котникова (ему мадемуазель Жалю сдала комнату Константина):
«Всё в этом рассудительном человеке было, как говорят врачи, противопоказано Сухуму…
<…> Почти все свои рассказы он начинал одной и той же фразой: «Вот в нашем городке Мологе у мамаши моей, уважаемой Апполинарии Фроловны, был заведен зверский порядочек»…»
А сам Котников списан, видимо, с мужа Нюры (знакомой отца, которая в Москве была в Паустовского влюблена. В Сухум-Кале произошла тогда, в 1922 году, их «неожиданная встреча»), с коммерсанта, который вместо «ы» говорит «и». Встреча оставила негативный отпечаток, во всяком случае в дневнике читаем: «Опустилась… Мы с Кролом все же сохранили себя за эти годы».
Но я увлекся и несколько забежал вперед…
4
Видимо, фамилия доктора появилась от слегка переиначенной фамилии Самойленко. Во всяком случае постановка оперы, о которой я только что говорил, была осуществлена Г. А. Бочарниковой совместно с В. С. Самойленко – женой нашего доктора. Самойленки вместе с Нелидовой и Германом-Евтушенко провожали чету Паустовских в сухумском порту перед их отплытием в Батум.
5
Отец возвратился в Москву после скитаний-броска на юг с огромным творческим багажом, с не одним десятком очерков, несколькими рассказами, маленькой повестью и с неизменным чемоданом, в который складывались новые главы рукописи «Мертвой зыби» – первого своего романа.
Один из очерков – «Зима в Батуме», живописующий жизнь южного порта, К. Паустовский поместил в десятом номере журнала «Красный транспортник» за 1923 год. Выбор отцом этого журнала не был случаен, но об этом я расскажу немного позже.
ЗИМА В БАТУМЕ
(Фрагменты)
В горах седым туманом идут снега, пудрят изломанные спины черных, тяжелых массивов, а внизу, в городе, – словно костяшками по жести – пощелкивает по стенам домов редкий и крупный град. Зима. На море все чаще мечется белый шторм, ревет у мола, вскидывает на рейде мутные силуэты английских наливных пароходов.
В пароходных конторах тихо и скучно. Дремлют машинистки, и редко заходят посетители. Порт замер. А у порогов сырых магазинов, заваленных константинопольской дешевкой, стоят часами и смотрят на море молодые скучающие люди в коротеньких брючках.
Ждут. Может быть, сверкнет из-за мыса белыми надстройками палуб океанский пакетбот Триестинского, Ллойда, или Ориэнт Линии, или Пакэ, и снова они будут носиться, перекликаясь, по набережной – под грохот грузовиков – с ящиками сахарина и мыла, покупать коносаменты, спускать лиры, экспедировать и «делать разницу».
Они ждут. А старые «негоцианты» только брезгливо машут пухлыми руками, перевитыми янтарными четками, когда им предлагают какой-нибудь товар, и раздраженно отвечают:
– Это не предмет! Это не количество!
Все реже дымят в порту, выплевывая жирный дым, иностранные пароходы. Грузы пошли на север, на Одессу, Новороссийск. И кирпично-красные батумские закаты освещают в гавани только желтые трубы наливных пароходов и горы зеленоватых апельсинов на облезлых анатолийских фелюгах.
К наливным пароходам «население» Ъатума чувствует некую недоброжелательность:
– Э, как вы не понимаете! Они только забирают керосин, и больше ничего!
В управлении порта тихо и пустынно. Тикают где-то часы, и за окном, в белом молоке тумана, полощется флаг на «Пестеле» – флаг госпароходства: красный с синим полем.
Молодые люди, играющие цепочками, едут на север, в Петроград, Москву, Одессу, и все чаще на дверях опустевших складов мелькают сургучные печати.
Купцы жалуются – густо пошел московский товар, а Константинополь что-то притих. На бирже, где слышен прибой у набережных, – вялое оживление. Ходят из рук в руки все одни и те же исписанные вдоль и поперек затрепанные лиры, и биржевые зайцы уныло поглядывают на них и на все вопросы сердито отвечают:
– Что лира, лира! О лире так даже и не спрашивайте…
А по вечерам пустынно в портовых улицах, где бродят у слепых, заколоченных витрин молчаливые сторожа и провисает над головой черная и тяжелая ночь.
Батум – «вольная гавань», город биржевой горячки, фальшивого блеска, беготни, крика, ажиотажа и подозрительного делячества – медленно, но верно замирает. Вместо Константинополя открылись на севере новые широкие, здоровые рынки, откуда проникли в насыщенные торгом, удушливые и нездоровые улицы этого города свежие северные ветры. И о «прошлом» Вотуме сейчас томятся только немногие юноши из бесчисленных экспедиций, контор и некоих загадочных и сомнительных «фирм» и под шум безысходного, мутного дождя поют навязшую песню:
Обидно, эх досадно
До слез и до мученья,
Что в жизни так поздно
Мы встретились с тобой,
и вяло жуют – с недовольными гримасами на лице – водянистые от дождя мандарины.
6
В Москве хранится переплетенная в книгу подшивка из 19 номеров морской батумской газеты «Маяк», издававшейся Центральным правлением Союза водников побережья Батум – Гагры. Георгий Амберович Ам-бернади, ныне проживающий в Москве, познакомил меня со своими интересными архивными поисками, которыми ныне делюсь с читателями «Броска на юг».
Первый номер «Маяка» вышел 21 августа 1922 года. Поскольку главным редактором и выпускающим второй морской газеты в федерации был Константин Паустовский, он, естественно, привнес в газету одесскую наработку «Моряка» – заголовок дублировался на английском и французском языках («Лайтхаус» и «Ле Фар»), над заголовком был повторен призыв «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!», на страницах профессионально-производственной газеты печатались также и сугубо литературные материалы: рассказы, стихи, очерки, эссе…
Среди них мы найдем очерк и стихотворение легендарного Дмитрия Лухманова – капитана дальнего плавания, писателя, педагога с почти фантастической биографией, бывшего тогда директором-распорядителем Доброфлота. В 1924 году они встретятся в Ленинграде при отплытии барка «Товарищ» (бывший «Лауристон») в первое кругосветное плавание. Делегацию от Москвы представляли главный редактор газеты водников «На вахте» Евгений Иванов и сотрудник этой газеты Константин Паустовский, который впоследствии записал: «Женя познакомил меня с рыжим веселым стариком – знаменитым парусным капитаном и морским писателем Лухмановым».
Маленький периферийный «Маяк» поражает своей исключительной осведомленностью в событиях международной жизни. Перипетии разгоревшейся тогда греко-турецкой войны, близкой жителям Батума и географически и демографически, давались на уровне московских газет. В этом, безусловно, заслуга другого замечательного автора «Маяка» – Рувима Фра-ермана, корреспондента Российского телеграфного агентства (РОСТА) по Батуму, человека, близкого к семье Паустовских еще со времен одесских…
Кстати, маленькая деталь: будучи главным редактором, отец всемерно привлекал к работе в газете не только молодых рабочих корреспондентов, но и всех своих друзей. Не стал исключением даже художник Михаил Синявский, давний друг моих родителей, одно время в Одессе их жены, Екатерина Степановна и Мальвина, вместе работали в одной творческой мастерской. Так вот, в восьмом номере газеты была напечатана его заметка «Маленькое пароходство» под псевдонимом «М. С». Заметка не о художественных концепциях и взглядах, не о прикладном труде художника, – Синявский принимал участие в праздничном оформлении Батума, его плакатный «Красный конь» запомнился многим батумцам, – не о тиражировании портретов Кемаль-паши. Нет, в заметке речь шла о заботах создаваемого в Батуме Грузинского пароходства…



