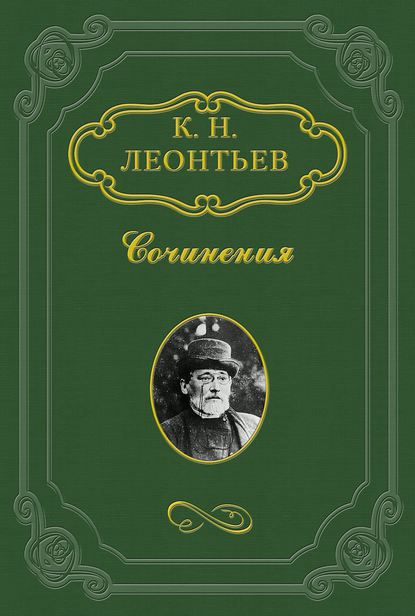 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Кто правее?
Один из весьма известных{45} писателей наших (и в то же время опытный хозяин и богатый помещик), говоря однажды о взглядах Аксакова, выразился так: «Вот Аксаков говорит все о «внутренней правде», присущей русскому человеку, и о том, что за внешней правдой он не гонится и договора не признает. А я скажу, если он не признает договора и внешней правды не любит, так надо за это сечь!»
Это к слову, чтобы не подумали, что я безусловный порицатель этой «вексельной честности».
«Quod licet Jovi, non licet bovi!»{46}
Иное дело, если Байрон, Рудин или даже какой-нибудь особенно даровитый кольцовский лихач-кудрявич простого звания будут неаккуратны в мелких обязанностях. Но когда станут точно так же вести себя целые десятки тысяч обыкновенных людей, то это станет нестерпимо.
Что касается до высшего долга, то среди многочисленного русского населения одна только армия во всецелости своей превосходно исполняет его, когда приходит ее время действовать.
Но ведь что такое армия, как не собрание людей, живущих под правильной дисциплиной, т. е. под постоянным страхом человеческим?
Жаль, что, перечисляя психические особенности русского национального характера, г-н Астафьев забыл напомнить и о том, что для русского человека, вследствие невыдержки его и легкомыслия, особенно необходимы и страх Божий, и страх человеческий (как суррогат первого).
И оба эти «страха» нужны не только для рабочих людей, но и для образованного класса; между прочим, и для нас с г-ном Астафьевым.
Примечания
1
«Русское обозрение», март; «Гражданин», май, № 144 и 147 и «Моск<овские> ведомости», июнь, № 177 (все – <18>90 года)
2
В подробностях, впрочем, не совсем прозорливо, а местами и вовсе ложно.
3
Сборник мой «Восток, Россия и славянство». Т. 1.
4
См. его «Confessions d'un revolutionnaire» и «Contradictions economiques»{47} (1850 и 1851)
5
См. две брошюры г-на Астафьева «Смысл истории…» и «Симптомы и причины…» (М., 1885)
6
Так думают многие духовные люди наши; между прочим, затворник епископ Феофан. В небольшой заметке своей, озаглавленной «Отступление в последние дни мира», он выражается так: «Приятно встречать у некоторых писателей светлые изображения христианства в будущем, но нечем оправдать их. Точно, благодатное царство Христово расширяется, растет и полнеет, но не на земле – видимо, а на Небе – невидимо, из лиц, и там, и здесь, в царствах земных приготовляемых туда спасительною силою Христовою». «На земле же господство зла и неверия расширяется видимо».
7
Наши отцы и деды высшего круга тщетно старались походить на иностранцев, а мы теперь пытаемся как будто стать независимыми. Но как ни велико было прежнее рабство русской мысли, строй русского общества даже и в первой половине XIX века был настолько еще своеобразен, что в жизни, на деле эти отцы и деды наши были людьми несравненно более русского типа, чем мы.
Теперь теоретическая жизнь наша неизмеримо возросла; наша мысль становится все независимее и смелее, это правда. Но зато, с другой стороны, общественный строй наш стал несравненно ближе к западному; привычки и ходячие понятия сделались более европейскими. Прежние заимствованные теории и вкусы теперь лишь принесли свои практические плоды.
Многие из нас (быть может, самые лучшие и способные) давно уже возненавидели это подражание и стали стремиться к освобождению русской мысли из западного пленения. Мысль эта стала действительно сильнее, смелее, богаче; «национальное сознание» наше стало глубже и яснее (ведь и Вы, Владимир Сергеевич, представитель особого рода национального сознания нашего).
Все это так. Но сами-то мы, по образу жизни нашей, по всем неотразимым потребностям и по всем въевшимся в кровь привычкам, по всему типу нашему стали гораздо более обыкновенными европейцами, чем были эти отцы и деды, подражатели только в принципе…
Принесет ли и скоро ли принесет плоды житейской самобытности и силы теперешняя независимость и сила нашего мышления? Это еще неизвестно.
Дай Бог, чтобы принесла! А малым с этой стороны утешаться не следует!
Не всякая независимость мысли и не всякое ее богатство влечет за собою неизбежно выразительность и силу жизни.
Французское умственное творчество первой половины нашего века было удивительно богато; но многое ли перешло в жизнь, много ли претворилось в нее из всех этих смелых мечтаний, глубоких соображений, блестящих теорий? За этим пышным расцветом французской литературы на деле что последовало очень скоро? Ослабление мировой политической силы; а во внутренней жизни весьма, конечно, значительная будничная и мелкая добропорядочность, и больше ничего!
То, что В. Гюго воображал «лазуревым», вышло серым.
8
На этом неумении нечего нового и крепкого выдумать, на этом равнодушии ко всему творческому, на этой боязни всего оригинального, на этом нежелании сохранять даже и существующее, если оно не подходит под общеевропейскую мерку приличий, порядка и т. д., я могу поймать беспрестанно и самые консервативные органы нашей печати: «Московские ведомости» и прежние, и нынешние; «Гражданин» и т. д. Когда-нибудь я это и сделаю. Перечислю.
9
Почему тот же Спенсер из своих правильных «органических» оснований выводит совершенно неправильно неорганические либеральные выводы; и почему он, разбирая так внимательно процесс «дифференцирования» (т. е. усиление разнообразия), не думает вовсе о том мистическом единстве, которое одно только и может сдерживать и направлять это стремящееся врозь и вширь разнообразие? Не знаю.
Бездуховного единства, без преобладания какой-нибудь религии не будет гармонической разнородности, а последует скоро та хаотическая разнородность, которую он сам называет разложением. (Мое смешение)
Религия, между прочим, способствует, как всем известно, и перенесению неравноправности; а неравноправность или, точнее сказать, долговременная разноправность есть едва ли не самое главное и основное проявление процесса дифференцирования в общественной жизни. Без этой разноправности в религиозном единстве едва ли может долго прожить какое-нибудь общество, не переходя в хаотическое состояние.
Я намереваюсь в конце этих писем моих привести небольшие отрывки из Спенсера, Прудона и Дж. Ст. Милля, которые меня подтверждают, мне кажется, довольно вразумительно.
10
Порядка и мира все-таки не будет; а если они и воцаряются на некоторое время, то разве от усталости и до новых разочарований и раздоров. «Человечество, достигнув высшей степени цивилизации, поймет весь безвыходный ужас своего положения», – говорит Эд. ф. Гартман.
11
1603–1625 годы.
12
Г-н Астафьев не либерал, не космополит и утилитарист; относительно его я обязан не только к вежливости, но и к чувствам любви и внутренней деликатности.
13
Первый был гомерический.
14
Вероятно, древний, язычник.
15
Термин г-на Астафьева; с. 290.
16
Искупителем Богом, Апостолами и св<ятыми> отцами Вселенских соборов – по учению греко-российского Православия.
Комментарии
1
Настоящая статья публикуется по книге: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891) (М.: Республика, 1996. С. 625–678; 749–762), которая, в свою очередь, сверена Г. Б. Кремневым и В.И. Косиком по рукописям, хранящимся в (ГЛМ) государственном литературном музее (ф. 196, оп. 1, д. 29–32). Эта статья К. Н. Леонтьева есть третья попытка его «объяснения» с П. Е. Астафьевым. Двумя первыми попытками следует считать незаконченную работу «Культурный идеал и племенная политика». Теперь К. Н. Леонтьев пытается апеллировать к интеллектуальным способностям Вл. С. Соловьева, который согласился «рассудить спор», о чем и состоялась устная договоренность во время пребывания К. Н. Леонтьева в Москве (с 18 августа по 14 сентября 1890 г.). Этим самым К. Н. Леонтьев попытался осуществить свою давнюю мечту – получить развернутое суждение Вл. Соловьева о своей культурофильской концепции. Об этой устной договоренности К. Н. Леонтьев писал священнику И. Фуделю в письме от 4 декабря 1890 г.: «…мы с Соловьевым уговорились так: я обращусь к нему письмом (в «Русском обозрении») с просьбой рассудить меня с Астафьевым (конечно, теоретически, а не морально). Он отвечает. Первая ½ этой работы послана ему на днях. 2-я кончается. Озаглавлено: «О важном и великом по поводу малого и неважного». (Неважное – это наше недоразумение с Астафьевым.) Но так как я этими письмами не очень доволен, к тому же затруднил Соловьеву ответ тем, что его самого (судьба-то) беспрестанно вынужден был затрагивать и даже обвинять, то на меня нашли сомнения и я просил его решить по совести (с точки зрения моих интересов), печатать ли их или бросить это дело. На днях жду от него телеграммы.
Если он решит не печатать, то все-таки прошу его по дружбе сделать для меня на белых оборотах листов подробные возражения и замечания и возвратить мне рукопись. То же будет и со 2-й ½, которую я хотя бы только для своего удовольствия, но непременно допишу до конца и тоже пошлю ему, для таких же надписей. Во всяком случае Вы все это прочтете или в печати, или в рукописи, и это облегчит Вам Ваши дальнейшие труды».
К. Н. Леонтьев, считавший себя вовсе не противником «национального начала», а, наоборот, защитником и служителем этого национального начала, «но только не в племенном его смысле, а в культурном – обособляющем», желал знать, – достанет ли у согласившегося на словах «рассудить спор» Вл. С. Соловьева, справедливости и прямоты напечатать то, что он на словах говорит в лицо. Это леонтьевское желание закончилось неудачей. В начале 1891 г. у Вл. Соловьева резко ухудшились отношения с редакцией «Русского обозрения» и о своем отказе от первоначальной договоренности он сообщил К. Н. Леонтьеву. В письме священнику И. Фуделю от 19 марта 1891 г. К. Н. Леонтьев писал: «Получил вчера телеграмму от Вл. Соловьева; он не хочет ввязываться в наш спор с Астафьевым; рукопись возвратит и письмо с объяснениями пришлет. Я очень рад. Я так недоволен его гнусным и все более и более тесным союзом с прогрессом, что страдал от мысли некоторым образом обязаться ему. Теперь у меня руки на всякий случай – развязаны; и я, конечно, уже не пощажу его, когда придется кстати; не за Рим, не за «развитие», конечно! А за – хамство…». Однако получил назад посланную Вл. Соловьеву рукопись К. Н. Леонтьев только за два месяца до смерти.
2
Скорее всего, К. Н. Леонтьев здесь цитирует вовсе не IV гл. Книги Бытия.
3
См. работу А. А. Киреева «Народная политика, как основа порядка». СПб, 1889.
4
Эта фраза помещена под фотографией Н. Я. Данилевского его книги «Россия и Европа». СПб., 1888.
5
См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1888. С. XXVIII.
6
Этот эпиграф: «Кто хорошо распознает болезнь, тот хорошо ее лечит» – на латинском языке К. Н. Леонтьев предпослал своей работе «Национальная политика как орудие всемирной революции».
7
Two treatises (англ.) – два трактата.
8
См.: Прокофьев В. А. Россия и греко-болгарская распря // Новое время. 1889. 12 июля.
9
Это пророчество К. Н. Леонтьева сбылось.
10
После войны 1877–1878 гг. Сербия в отличие от Болгарии была отодвинута на периферию русской дипломатии, что было обусловлено переходом князя Милана на проавстрийские позиции.
11
Статья К. Н. Леонтьев «Неотчуждаемость дворянского участка и борьба с крамолой» была опубликована 10 апреля 1880 г в качестве передовицы «Варшавского дневника».
12
Мф 20:16; 22:14.
13
Русский дух «моральность свою, личную совесть ставит всегда выше безличной легальности, вовне организованной и отвне поддерживаемой. Если отсюда вытекают некоторая наша беспорядочность, халатность и неряшливость в исполнении житейских обязанностей наших, некоторый недостаток того, что К. Н. Леонтьев назвал «вексельною честностью», составляющею высшую гордость и славу заправского западного буржуа, – то все эти недостатки наши и вытекающие из них житейские неустройства и неудобства связаны именно с тем, что для нас навсегда моральность выше легальности, душа дороже формальной организации, в которую мы никогда и не полагаем эту душу». См.: Русское обозрение. 1890. № 3. С. 290.
14
1 Кор 7:31.
15
Ис 24:1–3.
16
1 Тим 1:15.
17
Turgor vitalis (лат.) – жизненный напор.
18
В сентябре 1885 г. в столице Восточной Румелии, области, находящейся, согласно Берлинскому трактату, под властью султана, вспыхнуло восстание. Было провозглашено объединение Болгарии во главе с Александром Баттенбергским, который принял титул князя Северной и Южной Болгарии. В результате болгаро-турецкого соглашения (февраль 1886 г.) болгарский князь утверждался султаном в качестве генерал-губернатора Восточной Румелии сроком на 5 лет; Болгария в результате этого договора вышла из-под контроля России и стала союзницей Порты. Хотя это военное соглашение Болгарии и Турции укрепляло англо-австрийское влияние на Балканах, российское правительство пошло на его признание.
19
Речь идет о цикле статей «Текущие вопросы международной политики» в «Русском обозрении» (1890. № 4–7, 9–12) В. А. Грингмута (псевдонимом Spectator – Обозреватель).
20
Цитата из произведения И. Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1797).
21
Цитата из произведения И. А. Крылова «Петух и жемчужное зерно» (1809).
22
Faut d'la vertu, pas trap n'en faut (франц.) – без добродетели не проживешь, но не переборщи.
23
Faut de'la philosophic, pas trop n'en faut (франц.) – без философии не проживешь, но не переборщи.
24
Chercher midi à quatorze heures (франц.) – попусту ломать себе голову; перемудрить.
25
La politique des nationalités (франц.) – политика национальностей; национальная политика.
26
Речь идет о цикле статей издателя «Благовеста» А. Васильева «Задачи и стремления славянофильства» (1890. № 1–5), в котором подвергается критике А. А. Киреева «Славянское обозрение».
27
Здесь в рукописи оставлено место для цитаты из передовицы И. С. Аксакова в газете «Русь» от 19 октября 1885 г. Если бы К. Н. Леонтьев процитировал это место, то, вернее всего, он сослался бы на следующую мысль И. С. Аксакова: «Мы вовсе не думаем, что судьбы мира заканчиваются Россией и что она одна призвана воплотить Царство Божие на земле! <…> Но изо всех выдвинувшихся на историческую очередь национальных индивидуальностей православная Россия представляется (не думаем, чтоб мы обольщались) наиболее пока широким историческим сосудом для вмещения в наибольшей полноте жизненной христианской истины. Это не есть «византизм», который К. Н. Леонтьев, например, считает основою культурного типа России. «Византизм», как явление историческое, носит на себе и печать односторонности, уже отжившей. Он призван к очищению в русском горниле: все, что было и есть истинного и вечного в византизме, то восприняла в себя, конечно, и Россия, из Византии озаренная светом веры; но все, что в нем было временного и национально-одностороннего, должно раствориться, исчезнуть в большей многосторонности и широте русского духа». См.: Аксаков И. С. Полное собрание сочинений. М., 1886. Т. 1. С. 678–679.
28
«Современные известия» от 24 сентября 1885 г.
29
На сей счет в черновой рукописи К. Н. Леонтьев записал: «…т. е. к тому времени, когда не было ни Никейского Символа Веры, ни литургии Василия Великого <и Иоанна Златоуста>, ни утвержденного учения о семи Таинствах, ни освященного Вселенскими Отцами иконопочитания.
<Хорошо Православие! Некое подобие такого Православия, такого возвращения ко временам «до Константина» мы видим теперь в штундизме и в пашковской вере.
Да и то не совсем; ибо нет уже Диоклетианов, Декиев и Неронов>».
30
См.: Балканский Твердко. Славянство и Константин Леонтьев // Современные известия. 1885, 31 октября.
31
Разбирая книгу г. Каптерева «Характер отношений России к православному Востоку» автор статьи в «Русской мысли», высказывая мнение о значении византийского влияния в русской жизни, писал, что «во многих отношениях оно оказалось весьма вредным, обезличивая русского человека, приучая его к слепому формализму, к преклонению перед обрядностью». См.: «Русская мысль». 1885. № 7. С. 12.
32
Здесь в рукописи оставлено место для цитаты из статьи «О «Византизме и славянстве» Н. Н. Страхова в № 137 «Русского мира» за 1876 г., в которой он писал о К. Н. Леонтьеве: «Византизмом он называет ту особую культуру, тот склад чувств, мыслей и всей жизни, который ведет свое начало от Византии. Автор доказывает, что такая культура существует, что ее влияние шире, чем обыкновенно полагают, и что мы, русские, должны признавать в ней ту культуру, в подчинении которой мы развились, развиваемся теперь и должны развиваться вперед».
33
Здесь в рукописи оставлено место для цитаты из французского издания книги Вл. Соловьева «La Russie et I'Eglise Universelle» («Россия и вселенская Церковь»), но самой выписки нет.
34
На эту публикацию об Оптиной пустыне К. Н. Леонтьев ответил заметкой «Вооруженные монахи (письмо в редакцию)». См.: Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем. В 12 т. СПб., 2007. Т. 8. Кн. 1. С. 21–23.
35
Упразднение патриаршества Петром I.
36
Dieu a voulu que le christianisme fut èminemment grec (франц.) – Бог возжелал, чтобы христианство было по преимуществу греческим.
37
«Как русская изящная литература, при всей своей оригинальности, – был убежден Вл. Соловьев, – есть одна из европейских литератур, так и сама Россия, при всех своих особенностях, есть одна из европейских наций». См.: Соловьев Вл. С. Россия и Европа // Соловьев Вл. С. Соч. в 2 т. Философская публицистика. М., 1989. Т. 1. С. 352.
38
П. Е. Астафьев писал о К. Н. Леонтьеве: «Слишком много сил, страсти и дарования положил он в этом прошлом на проповедь византизма и слишком хорошо знает он, что дорогая ему византийская культура всегда была не национальной (о византийской национальности никто не слыхивал), но эклектической, искусственно выращенной». См.: Астафьев П. Е. Объяснение с г-ном Леонтьевым // Астафьев П. Е. Философия нации и единство мировоззрения. М., 2000. С. 64.
39
Le vénérable rite grec (франц.) – почтенный греческий обряд.
40
Un grec du Bas-Empire (франц.) – грек из Восточно-Римской империи.
41
Астафьев П. Е. Национальное самосознание и общечеловеческие задачи // Русское обозрение. 1890. № 3. С. 269. Или см. современное издание: Астафьев П. Е. Национальность и общечеловеческие задачи // Астафьев П. Е. Философия нации и единство мировоззрения. М., 2000. С. 29–30.
42
Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина» (1841).
43
Астафьев П. Е. Национальное самосознание и общечеловеческие задачи // Русское обозрение. 1890. № 3. С. 288. Или см. современное издание: Астафьев П. Е. Национальность и общечеловеческие задачи // Астафьев П. Е. Философия нации и единство мировоззрения. М., 2000. С. 48.
44
Астафьев П. Е. Национальное самосознание и общечеловеческие задачи // Русское обозрение. 1890. № 3. С. 292. Или см. современное издание: Астафьев П. Е. Национальность и общечеловеческие задачи // Астафьев П. Е. Философия нации и единство мировоззрения. М., 2000. С. 52.
45
А. А. Фет.
46
Quod licet Jovi, non licet bovi! (лат.) – что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку!
47
Работы Пьера Прудона называются «Исповедь революционера» и «Экономические противоречия».



