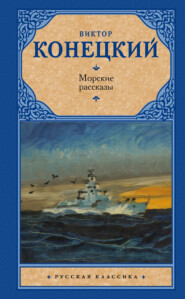
Полная версия:
Морские рассказы (сборник)
И мы, и полярники, и собаки, и мишки смотрели на щенка с уважением. Он пустился в путь через весь остров по следам других и шел двенадцать миль совсем один, и все-таки дошел, но теперь боялся спускаться по крутому обрыву, хотя мы знали и подбадривали его снизу. Верка тоже смотрела на своего сынишку, но, по-моему, не волновалась за него.
Следовало кому-нибудь влезть на обрыв и снести щенка вниз, но все мы уже здорово устали и медлили. И вместо нас полез медвежонок. Он растопыривал лапы, упирался ими в рыхлый снег, по-всякому извивался и влез на откос очень быстро. Щенок ждал его наверху. Они, наверное, о чем-то поговорили. Потом медвежонок опрокинулся на спину, поерзал немного, подталкивая себя к обрыву, и съехал к нам, весь в облаках снежной пыли, головой вперед.
Он показывал пример.
Но щенок не понял, он все повизгивал и подскакивал на одном месте. И тогда полез другой медвежонок, он лез очень сурово и решительно, он твердо знал, что надо будет сделать со щенком, и поэтому не торопился.
Воткнулись в угольную кучу наши лопаты, пошевеливался на слабой волне понтон у припая, медленно проплывали мимо льдины, похожие на замерзших огромных птиц, быстро менялись в небе очертания облаков, огромная северная тишина сомкнулась вокруг нас, и только повизгивал наверху щенок.
Мишка вылез к нему и с ходу, сразу дал под зад лапой. Щенок покатился вниз визжащим комком. Он катился долго-долго, потом вскочил на ноги, перестал визжать, отряхнулся и радостно подбежал к нам. Все оказалось не так страшно. Надо было только получить толчок вначале. И все мы повеселели и опять принялись за работу.
А щенок, конечно, был очень голодный. Он нюхал снег в тех местах, где мы выливали жратву, но весь съедобный снег уже вылизали другие. Тогда щенок подлез к медвежонку, тот открыл пасть, щенок засунул в нее свою маленькую башку и стал выковыривать языком застрявшие в медвежьих зубах остатки пищи.
Ночью мы работали при свете фар трактора. Пошел снег, он казался черным. Похолодало. Волны плюхали во льдах угрюмо. И угрюмая, застывающая Арктика давила души. Костры горели красными огнями, собаки грелись возле них, не мигая, привычно глядели в огонь и бездельничали. Мишки улеглись на льду у полыньи и сосали лапы, они очень смешно пыхтели при этом, в ритм, как маленькие дизеля, и меняли лапы тоже одновременно, строго взглядывая друг на друга. А Верка закопалась в кучу угля, он был теплый внутренним, мягким теплом. Мы брали его в Архангельске чуть влажным, и за время пути он разогрелся в трюмах. Никто не заметил, что Верка забралась в него. Вездеход с санями въехал на полном газу по склону угольной кучи, Верка не успела отскочить. Во тьме ночи раздался визг, похожий на человеческий. Мы сбежались к ней, и никто не знал, что надо делать. Верка ползла куда-то, волоча задние лапы. Потом она забилась в снег и притихла, дрожа всем телом, судорожно зажмурив глаза. Другие псы не обратили на все это внимания. Только Рыжий несколько минут постоял возле Верки, слабо и неуверенно повиливая хвостом.
Мы решили, что она отлежится, потому что собаки – живучие существа. Нам было спокойнее так думать, нам было жаль Верку, мы все-таки чувствовали себя чем-то виноватыми и перед ней, и перед всеми зимовщиками. Мы привезли с судна всякие вкусные вещи – котлету, белый хлеб с маслом и даже сгущенного молока. И положили все это у самого Веркиного носа. Но она не могла есть и даже не понюхала молоко.
Мы боялись, что другие псы или медведи стащат ее рацион, и следили за ними. Но они подходили, нюхали, вздрагивали от желания стащить и уходили в сторонку, чтобы больше не возвращаться. Быть может, они вели себя так потому, что Верка была сукой, а может, понимали, что ей плохо и что нельзя ее обижать.
К утру похолодало еще больше, снег полетел гуще, ветер все заходил к норду, сплошные поля пакового льда стали приближаться к острову. Наше судно снялось с якоря и лавировало между ними, стараясь удерживаться на месте. Мы видели белый, красный и зеленый ходовые огни. Они медленно двигались в полумраке, и всем нам было ясно, что выгрузку закончить не удастся и что скоро придется уходить отсюда совсем.
В полдень с судна поднялась ракета – нам приказывали срочно возвращаться на борт.
Мы попрощались с зимовщиками и собаками. Как часто при расставаниях, взаимные обиды показались мелкими, нестоящими и хотелось сказать: «Вы же видите – мы не виноваты… Льды… тяжелые прогнозы… и у нас нет времени помочь вам больше. И впереди нас ожидают еще три полярные станции, и ребятам на них не лучше вашего…» Но как-то неудобно говорить такие слова. Всегда почему-то легче выругать друг друга ласковым матом, когда за ругательными, тяжелыми и грубыми словами стоит твое доброе отношение, и твоя тревога, и твое сожаление. И кроме таких слов, мы только сказали, что Верку можем взять на судно, у нас есть фельдшер, он ее как-нибудь подправит.
Зимовщики отказались.
Мы перешли на катер.
Берега острова удалялись медленно.
Собаки и мишки бежали за нами, перепрыгивая со льдины на льдину. Мы гнали их назад, мы боялись, что их унесет в море.
Под береговым откосом у горы грузов стояли зимовщики, очень одинокие и молчаливые, курили. Верка заметила, что мы уходим, она подползла к самому урезу воды, приподнялась на передних лапах и смотрела нам вслед. И кто-то из зимовщиков взял ее на руки, чтобы она дольше видела нас. И щенка они тоже взяли на руки.
Тут опять прилетел ледовый разведчик, потому что в штабе проводки беспокоились. Он заложил низкий вираж над островом. И свора помчалась за его стремительной тенью, лая яростно и в то же время любопытно и весело. Свора сразу забыла нас.
Островок уходил все дальше, и казалось, что холодное, застывающее море втягивает его в себя. Нам было тревожно за остающихся, мы желали им всем удачи и здоровья…
Потом была Земля Бунге; провалившийся под лед вездеход, на котором мы отправились охотиться на оленей; тундра без конца и края; бревно песцовой ловушки, украденное нами, чтобы привязать его к гусеницам вездехода и выбраться из ледяной каши…
Остров Вайгач. И веселая злость его собак…
Диксон. Вздувшиеся трупы белух на снегу у костра…
Гогланд – памятник, вознесенный Балтийским морем над духом десятков тысяч погибших. Черника и брусника… Сахалин, кореянка с привязанным на спине ребенком, прозрачная анивская селедка, и желтеющие за проливом Лаперуза вершины Хоккайдо…
Уже и даты все спутались – не вспомнишь, пожалуй.
Веками острова служили морякам.
Через острова моряки общались друг с другом и далекой родиной. Это были почтовые ящики. Сохранившаяся доныне привычка моряков малевать на стенке причала, у которого стоит судно, его название – атавизм далеких веков. Название и дата. Значит, такое-то судно тогда-то живым и здоровым прошло такой-то порт или остров. Теперь это в некотором роде хулиганство. Век назад это был единственный способ связи.
Парусники наших предков, совершавшие совместное плавание, назначали у одиноких островов рандеву.
Здесь, у Святой Елены, Лисянский на «Неве» не дождался «Надежды» Крузенштерна, когда они возвращались из первого русского плавания вокруг света. И представить себе невозможно, какие нервы были у людей, которые плавали совместно на парусниках и без рации. Как месяцами, годами тревожились они за судьбу друг друга, пока записка на одиноком острове не дарила их радостью общения.
Приветствую тень ваших парусов на этих волнах, глубокоуважаемый Иван Федорович Крузенштерн! Как вы сейчас там, на Васильевском острове, на набережной Лейтенанта Шмидта? Пожалуй, снег уже опять украшает ваши эполеты… Передайте мой поклон Неве!.. Не знаете ли, почему наши корабли больше не называют «Надеждой»?
Есть остров на том океане –Пустынный и мрачный гранит;На острове том есть могила,А в ней император зарыт.Причудливые вулканические базальты, поднимающиеся на полкилометра, с вершины которых смотрит на звезды Святая Елена. Мертвая зыбь обвивает ее подножье, прибойная пена белеет и сквозь мрак.
Лермонтов бродил здесь мыслями сто тридцать лет назад. Ступал вместе с императором по холодному ночному песку под базальтами. Плыл по ночным волнам зыби на корабле «Воздушный».
Еще в раннем детстве я выучил «Воздушный корабль» наизусть. И все пытался нарисовать его и звезды. На черное небо я капал белила. Звезды гасли, как только акварель высыхала.
Медленно, почти параллельно горизонту пролетает метеорит и гаснет…
Три десятилетия я плыл к этим звездам. Вот они. Вот край Южного Креста над горизонтом – очень, простите, невыразительное созвездие. Самое величественное – экваториальный царь – Орион. Но хочется увидеть Медведицу с детенышем – самое родное. Мы так давно уже ее не видели и неизвестно, когда еще увидим…
Воздушный корабль молча скользит, без матросов, без капитана, закрывает парусами южные звезды. Это не тучи гасят звезды, а его паруса…
«Воздушный корабль», строчка «Под снегом холодной России…», приводит ко мне в рубку тень Старого капрала: «Русский поход вспоминая…»
Шаляпин скорбит и гремит посередине Атлантики: «Дерзкие слышу слова, тень императора встала… Прочь! Не завязывать глаз!..»
Лермонтов, Беранже, Старый капрал, «Воздушный корабль» – неплохие у меня сегодня на ночной вахте попутчики.
Кто ты? Фильтр, через который некто пропускает свет звезд, тепло Солнца, и холод морей, и бег дельфинов. Вот и все. И если есть смысл в нашем существовании, то это смысл фильтра. Ты миллиардный фильтр, но, пройдя сквозь тебя, звезды делаются иными, нежели для всех других. Вот и все. Звезды принадлежат всем, и только одно принадлежит тебе – твои воспоминания… Звезды исчезли. Воздушный корабль закрыл парусами все небо.
Я пил чай, такой крепкий, что начинало подташнивать, курил заплесневелую «Новость». Хотелось удержать в себе настроение старых стихов. Стихи были отличной чеканки, слова в них туго звенели, как камень под затыльником приклада, когда солдаты берут «к ноге».
Старинных слов отменная чеканка…
Ночная вахта отказалась есть корейку, потому что у нее якобы какой-то запах появился. Я, намазав корейку горчицей, съел и рассказал ребятам о столярном клее, как мы в блокаду считали его деликатесом. Все долго, от души смеялись: «Ну, Викторыч, уж вы даете, так даете! Ну, Викторыч, никто лучше вас не заливает!..» Второй механик добавил: «У меня тетка блокадница. Клей, правда, ели, но только желатин, а столярный никто есть не станет – не крути ребятам мозги…»
Сперва я обозлился, полез в бутылку, потом взял себя в руки – безразлично стало. И грустно, что мы уже так далеки друг от друга, говорим на разных языках.
Мой сумасшедший знакомый из архангельского сквера так же вот не захотел спорить, доказывать. Это и есть смысл его «Хандры». Смертельно опасная штука. Подлаживаться к людям, мириться с мещанством в них, чтобы обрести тишину и покой, – значит, погубить в первую очередь свою душу.
В дрейфе
Морская тоска. Большой Халль шел за нами по пятам, как злобный пес.
Юхан Смуул. АвтобиографияНа пересечении экватора с Гринвичем мы легли в дрейф. Экваториальное течение по тридцать миль в сутки несет к Берегу Слоновой Кости. Под килем Гвинейская котловина. Знакомые места.
В Конго опять какая-то заваруха. В Анголе – война. В Сенегале – пограничные конфликты. В Гибралтаре – шурум-бурум между испанцами и англичанами. Куда нам все-таки после работы податься на моточистку?
Зеленая скука, неопределенность, монотонность. От черного ночного чая и бесчисленных сигарет начало болеть сердце. Боль нудная и ровная, как наш дрейф. Нет туалетного мыла. Кончается запас сухого тропического вина. Пустили в дело последнюю пачку карандашей для штурманской прокладки. Давно нет черного хлеба.
Сутки за сутками вздыхает на ровной зыби «Невель». Катятся и катятся под нами атлантические волны, поднимается и исчезает Луна, поднимается и исчезает Солнце, поднимается в зенит и исчезает Орион.
Мелкие склоки. Например, на производственном совещании был поднят вопрос мини-юбок. Наши женщины действительно совсем притупили бдительность. Жара и многомесячное общение с одними и теми же мужчинами не способствуют женской скромности. Они чувствуют себя как на кухне коммунальной квартиры.
Разговор начался со сливочного масла. Масло затвердело в холодильниках. Лень раскладывать в масленки нормальными кусками. Дамы подают на стол полукилограммовые бруски. Оттолкнувшись от масла, боцман произнес речь о голых ляжках. Старик обрушился на них с отелловской страстностью. Обрушившись на ляжки, он задел старпома, который попустительствует безнравственности.
– Все вы были черт знает в скольких странах, – сказал старпом. – Везде бабы взбесились. Везде они в мини, и везде невозможно работать! Такова мода. Они равноправные. И ни судовая администрация, ни профсоюз не имеют права диктовать им длину юбок. Этого нет в уставе. Вопрос масла ясен. Здесь я допустил слабину. А травить слабину подолов я не буду.
Наши дамы покинули производственное совещание с высоко поднятыми головами и подолами.
Незримый, смеялся им вслед Большой Халль.
Так наступает декабрь. В июне он казался далеким, как Луна. За это время на Луне побывали люди, и она приблизилась. И наступил декабрь.
Оранжерейная влажность. Рыбий запах везде на палубе, даже на ходовом мостике. Лески, волокущиеся за судном. Бледный, искромсанный топорами труп акулы на корме. Кусок другой акулы привязан на тросе за бортом – приманка.
Ют напоминает морг. Особенно когда пройдешь туда ночью, по безлюдному судну, чтобы размяться при свете луны. Слабый ветер гладит лицо, но долго не может прогнать ощущение опухлости после предвахтенного сна. Бродят в голове остатки тяжелых видений. Во рту горечь от чая и сигарет.
Липкие от рыбьей крови и слизи релинги. Черный океан. Покачиваются акульи челюсти на веревочках. Матросы выбеливают их на солнце. Получается сувенир довольно жуткого вида. Три ряда зубов в акульей пасти. Если один зуб ломается, на его место поднимается другой. Из плавников акул делают парус для сувенирной пироги.
Плавник голубой акулы есть и у меня. Тяжелый от кровоточащего мяса в корне, нежный и прозрачный по внешнему краю, но эта нежная и прозрачная кожа так плотна, что ее не проткнуть проволокой. И я был в акульей кровище, пока возился с плавником, вешал его сушиться на пеленгаторном мостике. И у меня оказались глаза завидущие, и мне захотелось иметь плавник голубой акулы – грозы китов. Его обводы чудеснее и совершеннее птичьего крыла. Все законы гидро- и аэродинамики заключены в лекальных изгибах плавника.
Когда пересекаешь океан полным ходом, торопишься из порта в порт, не знаешь и не можешь представить, сколько за бортом жизни. Надо остановиться. И тогда увидишь, что в каждой волне кипит и бурлит живое. Ночная тишина полна всплесков, шорохов, и вздохов, и слабых, но четких вскриков. И если представить себя в плотике среди океана, вровень с его верхней пленкой, то озноб пробирает от суеверной жути. Среди чужой жизни будешь ты, не среди безмерных вод, а в океане отчужденной жизни, хранящейся здесь сотни миллионов лет.
Четыреста миллионов лет существуют акулы в своем синем мире, а мы всего тридцать тысяч.
Темно-синее освещение сводит людей с ума – так говорят психологи. Если вспомнить свет дежурной лампочки в ночной казарме, в бомбоубежище, на крыше милицейской машины, то можно согласиться с психологами. Но как нас манит синее! Как сидим мы час за часом на берегу и глядим в синюю даль…
Три часа ночи.
Люстра опущена низко за борт. Волны вспыхивают ослепительными клочьями случайной пены. В глубине зыбин голубое сияние. Летучие рыбы лежат на освещенной воде, как огромные серые ночные бабочки или как маленькие самолетики Беллы Ахмадулиной, маленькие сверхзвуковые истребители с треугольным крылом. Они стартуют без разгона, испуганные тенью хищной рыбы, всплывающей из глубин преисподней. Зигзагами носятся красные кальмары, даже страх не может заставить их уйти от манящего белого света. Белое влечет их так же, как нас синее. И рыбы-иглы не боятся хищной тени. Они извиваются в свете люстры, всем гибким телом впитывая кванты. Пролетают невидимые ночные птицы, кричат странно. Днем их не видно почему-то.
Могучая стая серо-синих привидений медленными сужающимися кругами всплывает из черной глубины в конус света. Акула и штук двадцать паламид за ней. Акула уже чует приманку – кусок своей предшественницы. Три полосатых лоцмана повторяют каждое ее движение. Два лоцмана скользят по бокам, один под брюхом. Пассажирка-прилипала пиявкой висит на спине акулы. Паламиды держатся на дистанции в три – пять метров. Акула и ухом не ведет в их сторону. Так спокойно смотрит на пасущуюся рядом газель сытый лев.
Акула не торопится ужинать. Ткнется рылом в приманку, блеснет кроваво-изумрудным глазом и уйдет виражом. А паламиды охотятся на летучих рыб. Улепетывая, летучие рыбы мелькают в свете люстры папиросным, тлеющим, огоньком. Если рыбке не повезло, огонек гаснет в пасти паламиды.
На корме появляются мореходы, почуявшие акулу. Здесь страдающие бессонницей члены экспедиции и вахтенные, бессовестно бросившие на произвол судьбы работающие механизмы, передатчики, стиральные машины и ходовую рубку.
«Невель» крепко спит, уютно растянувшись на мягких и теплых волнах. Плюхает под кормой вода. Звезды чужих небес узкими лучиками пронзают ночную черноту.
За борт опускается шланг, подсоединенный к пожарной магистрали. Шум льющейся воды якобы привлекает рыб и лишает их осторожности. Забрасывают акульи лески со стальными поводками, с мороженой треской на крюке. Приносится кут, ибо от акулы, как и от океана, можно ожидать чего-нибудь совершенно неожиданного.
Мороженая северная треска приходится акуле по вкусу. Зигзаг, переворот, рывок и мгновенное бешенство. Теперь следует проявить железную выдержку, вспомнить Старика, увековеченного Хемингуэем. Но вспоминается бессмертный чеховский налим. Всевозможные советы и соображения высыпаются на ловцов. Их много, а акула одна. И в этом ее спасение.
Зверюгу подводят к борту и выдергивают голову из воды. Акула замирает. Шок? Известно, что выражение «замирает сердце» для акулы соответствует реальности. В момент опасности, гонки, шока ее сердце отключается. Отсюда невероятно длительная живучесть акул.
Жуткий вид у них, когда смотришь прямо сверху на вертикально висящую акулу, в щель ее пасти, растянутую еще крюком. Пластика движений, совершенство мощного тела уже не скрашивают тупой жестокости акульей физиономии, налицо только бандитская сущность. И тогда яростные споры ныряльщиков о том, кусаются акулы или нет, кажутся такими бессмысленными, как спор славянофилов и западников.
Для того чтобы подвести под акулу кут, надо потрудиться, но лень. Завести петлю на хвост еще хлопотнее. И хотя всем славянам ясно, что тащить на крюке бессмысленно, – сорвется, падла! – принимается именно такое, азиатское, фаталистическое решение.
Полтораста килограммов свинцовых хрящей и стальных мышц медленно поднимаются из родной стихии к палубе «Невеля». У комингса акула выходит из состояния нирваны. Если вы когда-нибудь в мальчишеском возрасте вытаскивали из будильника пружину и хотели ее удержать голыми руками, то вам понятно дальнейшее. Акула возвращается в колыбель жизни с пятиметровой орбиты, поднимая фонтан брызг и фонтан ругани. Последний выше и солонее первого.
– Попутный ветер, в корму дуй! – говорю я по-испански.
Конечно, охотничий азарт возникает, когда на крюке забьется живое, но когда акула, сорвавшись, остервенело торпедирует океан, я радуюсь за нее. Ошалевшая торпеда с такой скоростью исчезает в глубине, что представляется вероятным ее появление на другой стороне планеты, в районе Гавайских островов, уже через полчасика.
Монотонность дрейфовой жизни особенно тягостна для штурманов. Вахты бездеятельны. Пустота четырех часов. Один на один с Большим Халлем.
Смотришь в небо и раздумываешь над тем, что следует делать, если метеорит шлепнется рядом с судном. Включаешь воображение: ударная воздушная волна, водяная воронка, повышение температуры, многометровая водяная волна… Если воображение работает хорошо, доводишь себя даже до несколько взволнованного состояния, решая специальные вопросы: включать дозиметрическую аппаратуру или нет? Поворачивать судно на или от места падения? На каком ходу встречать волну?.. Глядишь – час прошел.
Если мы будем казаться будущим людям дураками (а это произойдет обязательно), то не только за низкий коэффициент полезного действия двигателя внутреннего сгорания. Они будут удивляться вопиющей бесхозяйственности в расходовании мозговой энергии. Миллионы тонн мозгового вещества в головах человечества работают вхолостую. Представьте себе Азовское море, заполненное до краев серым человеческим мозгом. И вся эта масса мозга решает вопрос: пойти в кино или нет?
Теперь представьте себе, сколько было мозга во всех черепах за все время существования человечества. Слоем толщиной в добрый метр можно было бы покрыть планету. И эта планета мозга родила за миллион лет атомную бомбу и несовершенную ракету, и это нам представляется космическим достижением человеческого гения! Гора, родившая мышь, работала производительней в бесконечное число раз. Простой станка на заводе или судна у причала мы считаем видом аварии. Тогда простой мозга надо почитать катастрофой, но мы укладываем миллионы тонн неотработанного мозга в могилы или сжигаем в крематориях. Вот от чего будут рвать на головах волосы будущие люди, если, конечно, они сохранят волосатость.
Монотонность дрейфовой жизни подвигнула меня не только на такие оригинальные размышления, но и на поэтическое творчество. Я и сам не заметил, что, расхаживая с крыла на крыло мостика, час за часом бормочу: «…надменны континенты… рок наших строк… кольцо оков, веков и облаков… Фрегат за взмах крыла проходит небосвод от Южного Креста до Ориона, и месяца качает корабли волна от Огненной Земли до Альбиона…»
И строка, от которой я не могу отвязаться и до сих пор: «Скелет кита на берегу Анголы…» Она звучала во мне балладно, запевно. К ней хотелось, болезненно даже хотелось, пристроить следующую строку.
«Скелет кита» разделил со мной не одну вахту, доводя до бешенства, но дальше баллада не шла. Никакое упрямство и упорство не помогло. Жуткое дело – отсутствие способностей к чему-либо.
Недалеко от Дакара горит и гибнет японской постройки супертанкер на двести тысяч тонн водоизмещения. Он шел из Амстердама на Персидский залив. Вероятно, мы успеем увидеть этот факел – такое не сразу прогорит и утонет, если не взорвется. Сорок два человека снял с него голландский танкер. Капитан и радист оставались, затем обгорели и тоже покинули судно.
Ежесуточно мировой флот теряет в огне два судна. Но только десять процентов пожаров приходится на танкеры – чем возможнее опасность, тем больше бдительность. Четверть всех пожаров вспыхивает на судах в море. Чаще они происходят на судоремонтных заводах и при погрузке-выгрузке.
Я осмыслял эти факты, готовясь к проведению занятий по противопожарной технике, когда старший электрик принес обрывок газеты «Водный транспорт» за 9 января 1969 года.
Крупными буквами на измятом клочке было набрано: «ГЕРОИ „АРГУСА“».
– Откуда это у вас?
– Так пипифакс кончился, – сказал электрик. – На газеты перешли. Я это с крюка снял. Думаю, может, заинтересует вас…
Конечно, мне было интересно прочитать об «Аргусе». Рассказывал заместитель начальника Главного управления мореплавания Министерства морского флота П. Грузинский. Он перечислял уже известные мне подвиги «Аргуса»: спасение киприотского судна «Марианти», помощь английскому судну «Верчармиан», выброшенному на подводную скалу, буксировку его в Гонконг. Об этом капитан «Аргуса» Бычков рассказывал нам у острова Рафаэль в каюте старпома. Но он не упомянул тогда о выводе из опасной зоны советского теплохода «Переславль-Залесский», атакованного американскими самолетами, о ремонте его механизмов; о помощи в разгрузке и заделке пробоин на итальянце «Августин Бертани».
«Тогда же на борту „Раздольного“ вьетнамцы тепло отзывались о совершенно необычной операции моряков „Аргуса“, – продолжал П. Грузинский. – Необычность состояла в том, что спасатели часто работали во время бомбежек… Случилось так, что Хайфон стал испытывать затруднения со снабжением пресной водой.
…По дну реки Кау Кам протянулось 750 метров труб. Это по ним поступала вода в Хайфон. Вьетнамские водолазы обнаружили разрыв, установили на этом месте буек. Ликвидировать утечку воды попросили экипаж советского спасателя. Вскоре „Аргус“ остановился у буйка. В мутную, грязную от ила воду Кау Кам ушел старший водолаз Терехов. Глубина – четырнадцать метров, видимость – ноль…
Трудная работа шла на дне Кау Кам. Водолазы укладывали тяжелые сорокакилограммовые шпалы из красного дерева – подставки под трубы. Не так-то просто было во мгле точно обрезать концы труб. Потом обнаружили еще один разрыв… Когда на осмотр второго повреждения водовода погрузился Терехов, в шлеме водолаза вдруг раздался тревожный голос капитана „Аргуса“:



