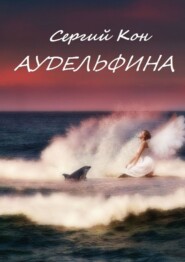скачать книгу бесплатно
– Водить можешь? – прокричал Конев.
– Да, – прокричал Белый в ответ.
– Всё, гони, я прикрою, – автоматически скомандовал Конев. И, дав две короткие прицельные очереди, используя редкий кустарник, перебежал за ближайшее укрытие в виде строительного блока, находящегося между ЖД и трассой. Поджигателей было двое, короткими прицельными очередями они старались остановить грузовик, поливая его свинцом с верхнего бруствера тоннеля. Чёрный дым от пожара, нараставшего с каждой секундой, заволакивал пространство и служил дымовой завесой. Отстреляв два магазина по диверсантам, используя удачно сложившуюся маскировку, Конев перебежал к составу и прополз под вагонами, выстрелов в его сторону не последовало, – значит, боевики не заметили манёвра десантника. Местный каменисто-горный рельеф позволял постепенно продвигаться и быть не замеченным противником. Направляясь по диагонали в гору, чтобы противник в итоге оказался ниже, мелкими перебежками пулемётчик достиг желаемого рубежа, и сверху было очень хорошо видно, что площадка над тоннелем пуста, а две фигуры удаляются от места нападения в горы так же по диагонали, находясь с пулемётчиком уже на одной параллели. Уперевшись сошками пулемёта в валун и приняв боевую стойку с колена, прицелившись в ведущего бандита, дал короткую очередь, увидев при этом, как тот дёрнулся и согнулся, и тут же расстрелял остальные патроны из обоймы длинной очередью туда, где находился второй. Сразу же пошёл ответный огонь, но не прицельно, а просто в его сторону, но уже из одного автомата.
Ага, получил фашист гранату, – пронеслась в голове у пулемётчика детская дразнилка, перебивая «Кино» – не остаться в этой траве, пожелай мне…
Позже, намного позже Конев понял, о какой траве поёт Виктор. Это отнюдь не трава полей боёв, в которой осталось лежать безчисленное множество бойцов всех времён и народов, и даже не та дурман-трава, которую предлагал Бес, на которую как бы вроде намекает певец, настоящий её смысл прячется намного глубже.
Осознание, что наши уже на подходе, а так же что в перестрелке, скорее всего, нейтрализован один из нападавших, вселяло уверенность и браваду. Он быстро поменял опустевший магазин РПКСа и, скрытно перебравшись повыше, на более удобную позицию, стал наблюдать из своего укрытия за действиями противника, попутно снаряжая патронами опустевшие магазины. Противник нигде не появлялся и не давал о себе знать. Затаиться ему смысла нет, ему сейчас ноги делать надо, но и мне ни к чему его догонять, а если раненого тащить задумает, то далеко всё равно не уйдёт, – думал Конев и принял положение лёжа для наблюдения за обстановкой. Понаблюдав несколько минут, он заметил, как со стороны базы приближается БТР «80» с десантниками на броне. Тормознув в километре от горевших вагонов, он сбросил бойцов и, продолжив движение, прошёл сквозь тоннель, где, остановившись с той стороны, ощетинился пулемётами в сторону гор, ожидая дальнейших распоряжений командира. Рассредоточившись по склону, бойцы перебежками, используя для прикрытия горный рельеф, продвигались в сторону Конева. Взводного и прилипшего к нему связиста с рацией на спине пулемётчик узнал сразу, а также старшину – авторитетного правдоруба крепыша по прозвищу Гога. Немногим позже угадалась тощая фигура Беса и крупногабаритного красноярца гранатомётчика Кирьяна, а так же писаря Краснова с которыми Конев находился в дружеских отношениях, затем Белый, Пуля и все остальные. Со стороны противника было тихо, это означало, что враг уносил ноги. Но точно об этом никогда не знаешь, если не знаешь наверняка. Конев откинулся от своего наблюдательного пункта на спину, поставил оружие на предохранитель и, застегнув ножки пулемёта, встал, ожидая командира для доклада.
Ещё не подойдя к пулемётчику, старлей который отвечает не только за выполнение боевой задачи, но и за жизнь и здоровье каждого своего бойца издалека завёл канонаду:
– Конь, ты что, сена объелся! Какого хрена ты в горы полез?! Команда не ясна была – охрана и сопровождение! Да ты у меня…
Тут, прервав воспитательную речь взводного прозвучал одиночный выстрел. Все бойцы тут же открыли шквальный огонь в сторону неприятеля. Но Конев этого уже не слышал. Пуля, загасив мощь о черепицу броневой пластины, бросила тело десантника вперёд на камни, развернув лицом вверх. Пулемётчик разбросав руки смотрел в голубое небо коньячными глазами, без единой мысли слушая небывалую вокруг тишину, где на фоне неба неожиданно появилось лицо Ангела. Конев сразу его узнал – Ангел был из сна, но это не было сном, как и не было явью, может быть, что-то среднее между ними, где-то на границе сознания и подсознания, где уже чувствуешь, но не видишь, а если видишь, то не можешь дотронуться. Склонившись, Ангел заговорил грубым голосом Беса, но слова были медленными и плыли как будто издалека:
– Конь, всё будет хорошо! Всё хорошо будет, Конь, вот увидишь!
В голове всё поплыло, смешавшись в единый коктейль сна и реальности. Мысли стали тягучими, как гудрон, металлический шлем оттягивал голову и казался неподъёмным, руки и ноги отяжелели, а металлический панцирь, обтягивающий корпус, не позволял вздохнуть полной грудью, и пулемётчику казалось, что он где-то на пути перехода физической жизни в другой, параллельный мир. Но на душе было спокойно от обстоятельства, что его сопровождает Ангел-хранитель. Тоннель перехода миров закрутился, набирая обороты, превращаясь в воронку, и боец, прежде чем потерять, как ему казалось сознание, увидел, как закрылось боевое забрало его рыцарского шлема, где он успел подумать: значит, так и должно быть, значит, это правильно.
В мае 1990 года 56-я десантно-штурмовая бригада, переформировавшись – приняв пополнение новобранцев, демобилизовав кто отслужил два года, поставив в боевые ряды кто отслужил первое полугодие, ушла с миротворческой миссией в Узбекистан и Киргизию. Туда, где Конев начинал свою армейскую службу, в Ферганскую долину и город Ханабад[27 - Ханабад – Самая восточная точка Узбекистана граничащая с Киргизией], куда под обеспечением десантников вывозили беженцев из киргизского Узгуна[28 - Узгун – город на юге Киргизской Республики административный центр Узгенского района Ошской области], контролируемого в том числе 56-ой Бригадой[29 - 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Отечественной войны Донская казачья бригада – отдельная часть в составе десантно-штурмовых формирований Сухопутных войск СССР в период Афганской войны, в составе ВДВ СССР и на текущий момент в составе Воздушно-десантных войск Российской Федерации.] ВДВ СССР.
Но после вывода миротворцев, под девизом: «долг платежом красен», народные мстители не отказывали себе в «справедливости», верша суд над иноплеменниками, отчего последующие события СМИ будут называть «Ошской резнёй». И где-то там, где нас нет, (как мы всегда думаем), в условиях, близких к идеальным для своего демонического существования, среди обманутых, революционно настроенных масс, в ожидании очередной жертвы, с потными руками изувера, пряталась особь со склизким лезвием смертельного жала, пронзившим упругое чрево молодой изнасилованной девушки, которую уже никогда не дождутся домой убитые горем родители.
Глава 11 (мифы и реалии)
Двери маршрутного автобуса открылись на крайней городской остановке, где оставляя следы «ёлочкой» от протекторов до блеска начищенных берцев, закинув новехонький, набитый подарками для родных и близких РД на плечо, вдыхая знакомый с детства воздух, десантник ощутил чувство дежавю. Когда он, добрался от пригородной, северной станции ЖД до родного города, на попутном грузовике, так как в карманах отглаженных чёрных клёш, державшихся на худющей талии широким морским ремнём, кроме портсигара с редкими папиросами, гулял ветер, и оплатить проезд было не чем. Но на ярко начищенной бляхе задорно красовался якорь и желтым золотом с погон форменного чёрного френча гордо отливали большие буквы – «Ф», а под гюйсом, молодецки грея душу, из под фланки выглядывало то, что ближе к телу – чёрно-белая тельняшка. Голову же венчала курсантская фуражка, а всё небольшое хозяйство умещалось в чёрно-жёлтом чемодане.
Но вот, прошли годы, слово, данное себе, Конев сдержал и на свой двадцатый день рождения сделал себе подарок – бросил курить. Да… это надо было видеть, – подумал десантник, – а ведь даже фотографий с мореходки никаких путных не осталось, впрочем, как и сейчас.
У Конева, как и у его боевых товарищей, (последние месяцы службы находящихся на боевом выходе), не было дембельских фотоальбомов, сделать которые в таких условиях не было никакой возможности, и в память об армии у него сохранилось около десятка фотографий. Отчего, будучи на гражданке, просматривая дембельские альбомы своих друзей, сделанные с характерным солдатским юмором, он всегда смущённо оправдывался, почему у него нет такого.
Два года службы в армии против двух месяцев мореходки (осенних каникул) очень большая разница, но чувства испытания тогда били через край и были трепетны от волнующей радости краткосрочного возвращения на родную землю. Взрослею видимо, – подумал десантник не испытывая былой мальчишеской радости и направился в город.
Летнее утро, встретив десантника голубым небом, вывело на городские улицы, где после ночной тишины окунувшись в суету нового дня, горожане уже спешили на свои рабочие места по исхоженному маршруту, с нескрываемым интересом рассматривая бойца ВДВ возвращавшегося домой.
Вообще, форма десантника всегда была красотой и гордостью войск Советского Союза. А тогда, в СССР, увидеть десантника в специальной форме, с неуставным аксельбантом из строп парашюта, в высоких шнурованных ботинках, ну и, конечно же, гордости любого, кто служил в ВДВ, – голубом берете, было в диковинку. Многие, оборачиваясь, смотрели вслед бойцу воздушно-десантных войск думая: домой возвращается солдат, радость-то какая родителям! А кто-то, не скрывая своей радости, здоровался и даже в обнимку, как старые друзья, (формально) интересуясь – «ну как там, всё нормально?» Там, это везде. Везде, где нас нет, но есть другие.
Десантник шёл по родному утреннему городу, ощущая всей своей кожей, как его изучают десятки, а может, и сотни пар глаз одновременно со всех сторон, как будто он попал под перекрёстный огонь. Но это не был огонь свинца войны, это был огонь радости жизни, который шлейфом катился следом за бойцом – если шёл Он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит… А солдат шёл домой, и чувство какой-то мальчишеской скромности не покидало его, слившись с чувством гордости за свои войска, за форму и за берет, который он честно заслужил, как и его товарищи, с кем последние два года делил воду, хлеб и патроны.
* * *
Но то была армия, где ясно прослеживается понятие «свой-чужой», а здесь гражданская жизнь с личной свободой выбора «враг-друг». Где в период 1990—1991 годов произошёл так называемый «парад суверенитетов», в ходе которого все союзные и многие из автономных республик, в том числе и РСФСР, приняли «Декларацию о суверенитете», оспорив приоритет общесоюзных законов над республиканскими, что явилось источником «войны законов», породивших собой множественные конфликты, вследствие чего в 1991 году впервые зафиксирован демографический кризис – превышение смертности над рождаемостью. Но, вот странно, людей в стране умирает каждый год больше, чем рождается, а простые, без хитростные люди жилья не имеют, хотя жилые многоэтажные дома строится, особенно по телевизору. Следовательно, его разваливается от ветхости и уничтожается больше, чем строится, относительно демографии, либо, его по закону, (как бы по справедливости) приобретает в свои закрома по праву – «сильнейший» (изворотливый).
При этом, сверкая медалью власти, озабоченный вырождением славянского населения России, (второй) президент вводит масштабированную программу «материнский капитал», главным образом направленную на стимуляцию рождаемости коренного населения, так как в семьях Кавказа, где сохранились заветы предков и без этого «капитала» будет не один ребёнок. А вот в славянских семьях, где христианскую веру ради «светлого пути» маниакально искореняли всеми способами, мало кто при данной экономике, решается на второго и тем более последующего ребёнка, испытав «прелести» аппарата управления РФ девяностых годов XX века. На основании чего «окумиренные» (как бы) грядущим коммунизмом светлого будущего своих детей, граждане страны реально осознают себя продуктом эволюции животного мира, где выживает «сильнейший», который на практике, к их особам, как оказалось, не имеет ни какого отношения. Отчего откровенно не могут взять в толк: как прозябая в нищете и беспросветной бедности, не имея элементарной возможности без криминала покрыть свои минимальные расходы, они могут жить на земле предков—победителей, не испытывая позора. А так же на каком основании обременять этой неразрешённой проблемой своих, (пока) не рожденных детей, от которых очередные «хозяева жизни» породившие собой вал абортизма христианского сознания из православной русской души возьмут по потребностям.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: