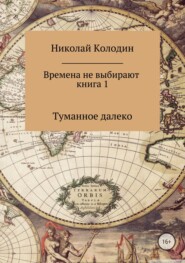 Полная версия
Полная версияВремена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
Я задумался. Всерьёз. Подобные предложения не каждый день получаешь. Понимал: принять предложение – значит, в корне изменить судьбу, то есть навсегда и без возможности возврата. Вспомнился Муром, имение графини Уваровой, военный городок, все мое детство под строевые песни. В кабинете военкома в памяти всплывали не веселые минуты на армейском стадионе «Звезда», не кино в воинской части, не глушение рыбы в Оке с понтонов, а бесконечная маршировка и муштра. Я представил себя в шинели при фуражке и погонах, сутулого, в очках… И так тошно стало.
– Могу отказаться?
– Конечно, а зачем? Что ты имеешь сейчас? Работу в деревне за сто двадцать рэ…
– Сто тридцать.
– Хорошо, сто тридцать. Но ведь и всё. Дальше только проблемы: с жильем, питанием, одеждой. Там и зарплата больше, и все проблемы решает за тебя армия.
– Я могу подумать?
– Думай. Полчаса. Через тридцать минут жду.
Я вышел на улицу. Вернулся на Комсомольскую площадь. Взял в гастрономе бутылку пива и отправился на берег. Там под «Николой» пил пиво, курил и размышлял. Но как-то несконцентрированно. Вспоминались и Муром, и Бурмакино, и Чертова лапа, и школа, и институт… Сказать, что уж совсем был категорически против, нельзя, ибо видел открывавшиеся перспективы и предлагаемые блага. Но я не просто дитя войны, а еще и дитя военного городка, хорошо знавший минусы армейского бытия. Пусть не все. Но многие. И боялся, понимая, что армия все-таки не моя стихия.
Вернувшись в кабинет, сразу заявил о нежелании отправляться во Львов.
– Ты что, не понимаешь, какое выгодное предложение получил?
– Понимаю, но не принимаю.
– Так, иди и еще хорошенько подумай. Сейчас двенадцать. Вот после обеда, то есть через час жду тебя и твоего согласия.
Надеюсь, понятно, от военкома я вновь направился в гастроном, только вместо пива взял бутылку молдавского вина «Рошу де дессерт», считая, что сейчас как раз тот случай, когда «без пол-литра не разобраться» (хорошее, кстати, вино, и дешевое).
Опять под «Николой» пил, курил, грустил от трудноразрешимого выбора. Чуточку захмелев, утвердился в окончательном решении и отказался.
– Ну, и дурак, – резюмировал военком.
– Наверное, – согласился, получая назад военный билет. (Признаюсь, потом не раз жалел).
Начало нового учебного года ознаменовалось событием из ряда вон выходящим. Приехав 15 октября домой, отправился на свидание с новой своей симпатией Люсей Юхтиной. Летом после танцев в саду ДК подхватил девушку и предложил проводить, она легко согласилась. Очень даже легко. Не насторожился. И зря. Люся жила в одиннадцатом или двенадцатом переулке Маяковского. Это далеко за Волгой. Назад к причалу я бежал, боясь опоздать к последнему пароходу. Успел. Отдышался. Решил: больше ни за что и никогда! А вечером почему-то отправился на встречу с ней. Так мы и прохороводились все лето. Я уже был своим у неё дома. К нам она уже приезжала без меня, коротая время с матерью. И, пожалуй, не зря, моя суровая мама была от Люси без ума.
Тем памятным октябрьским вечером она огорошила меня:
– Хрущева-то сняли.
Я встал, остолбенелый:
– Как сняли, ему же только что юбилей всей страной отмечали.
– Сняли, как миленького.
– И кто же рулит теперь?
– Да вроде Бежнев какой-то.
Люся, младший научный сотрудник НИИМСКа, от политики была далека, как от космоса. У меня же новость не выходила из головы. Дома спросил у матери подтверждения.
– Не сняли, а освободили по собственному желанию, – уточнила она.
– Как же… Оттуда по собственному только вперед ногами.
– Ты уж скажешь…
Спорить не хотелось, попил чайку и юркнул под одеяло. Но сон не шел. Я вспомнил вдруг обладателя странной фамилии. На апрельском торжестве, транслировавшемся по телевидению, всех потряс эпизод с огромной очередью желающих прислониться к юбиляру. И вдруг она замерла, затормозилась. К Никите Сергеевичу подобрался Брежнев. Он как-то слишком жарко обнял юбиляра и намертво припал губами к его губам. Было в том нечто странное, мы еще не знали страсти будущего Генсека к поцелуям. Очередь томилась, а тот все никак не мог оторваться. Вроде бы уж и Никита Сергеевич занемог, затряс руками. Но все же наконец Брежнев, весь просиянный, отвалился от губ и тела юбиляра. И тут до меня дошло: Брежнев тогда не поздравлял Хрущева, а прощался с ним. Заранее. До октября.
Как уже говорил, жить стали по-брежнему. В последние годы единственное, на что тот ещё был способен, это, запинаясь по слогам, прочитать написанное (чего стоят пресловутые сиськи-масиськи, то есть систематически).
В то время ходила такая байка. Умирает Суслов. Все близкие собрались на поминки. Лечащий врач умершего сидит в углу. На него подозрительно смотрит Леонид Ильич. Врач не выдерживает: «Известно: наш враг – склероз! – Нет, – решительно возражает Брежнев, – главный враг – расхлябанность! Мы уже полчаса сидим, а Суслова все нет!»
Но, может, и не байка, может, самая что ни на есть быль. Во всяком случае, хорошо помню телевизионную трансляцию тех самых похорон. У гроба с прощальным словом к соратнику и верному другу обращается Леонид Ильич. Долго надевает очки, тщетно пытается скрыть горе, наконец преодолев душащие его слезы, разворачивает лист: « Дорогой (взгляд в текст) Михаил Андреевич…» Он что же, не помнил, как звали лучшего друга и соратника?
А ведь с ним во главе мы прожили долгие восемнадцать лет!
От земли до небес
Одно из юношеских воспоминаний. Вместе с комсомольским билетом в комитете комсомола фабрики №2 комбината «Красный Перекоп» вменили мне обязанности народного дружинника. Как-то наша пятерка вместе с членом комитета веселой и решительной Валей отправилась в место злачное и к вечеру небезопасное – парк при клубе XVI партсъезда. Там мы нашли картежников, которые на требование прекратить игру и разойтись реагировали высказываниями типа «а хуху не хохо». Валентина оставила меня и полуслепую Тому Баталову рядом с отпетыми игроками, а сама с другими ребятами отправилась на поиски милиции. По телефону из клуба вызвала наряд, милиционеры быстро приехали и загрузили картежников в «черный воронок». Помнится случай тем, что старшей в нашей пятерке была мало кому известная, кроме нас, разумеется, Валя Терешкова. Сдается мне, что и выпуск стенгазеты, о котором я уже говорил, был инициирован ею же.
Сообщение о её полете в космос застало меня – студента пединститута – на пути к другу и сокурснику Вале Зиновьеву. Едва переступив порог, я заорал:
– Женщина в космосе, и я её знаю.
– Еще бы, – скептически хмыкнули друзья. – Сейчас таких будет пол-Перекопа.
И оказались правы. Я написал ей письмо. Но как отправить, чтобы точно дошло до адресата? Задачка непростая, но додумался. И, запечатав конверт, отравился к парторгу комбината Валентине Федоровне Усовой, зная о доверительных их отношениях. В кабинете, к счастью, она оказалась одна. Стесняясь и запинаясь, изложил просьбу. Та в ответ грустно улыбнулась:
– Валя наша на такой высоте теперь, что письма к ней придут не скоро и едва ли будут прочитаны.
– Почему?
– Ты думаешь, один такой?
Она подошла к сейфу, стоявшему в углу, отперла его неимоверно большим, наподобие амбарного, ключом.
– Смотри!
Подошел, заглянул: вся емкость сейфа заполнена письмами.
– Видишь, сколько знакомых и друзей сразу нашлось.
Но конверт мой взяла и добавила к той куче.
Больше о своем знакомстве с Терешковой никогда и нигде не распространялся.
Вообще, насколько помнится мне, особым её расположением пользовался один паренек. Завсегдатаями фабричного комитета комсомола были двое: сын главного инженера комбината Миша Калинин и его закадычный друг Юлий Батурин. Так вот Юля помогал ей готовиться к поступлению в текстильный институт. Отсюда и дружба. Но не более. Нравы, не в пример нынешним, были гораздо строже.
Паша высокий, широкоплечий, ноги колесом, как у всех хоккеистов (а он любил хоккей), активно занимался спортом, увлекался рационализацией и оттого постоянно находился в цейтноте, и я не уверен, что у него было время на что-то еще.
Подтверждение своим словам я нашел в воспоминаниях журналистки Инны Копыловой из книги «Женщина века». Она рассказывала, что самый первый газетный снимок Валентины опубликовала молодежная областная газета «Юность» еще в октябре 1959 года. Тогда всю страну всколыхнул почин молодого технолога Московского автозавода имени Лихачева Евгения Пронкина. Молодой специалист вызвался использовать полученные в вузе знания для того, чтобы помочь в труде и учебе двум молодым рабочим.
Инициативе москвича посвятили внеочередное заседание комитета ВЛКСМ комбината. Решили единогласно: поддержать. Среди первых оказались комсомольцы ленторовничного цеха. Выпускник Московского текстильного института Юлий Батурин стал помогать ровничнице Вале Терешковой, окончившей вечерний текстильный техникум, и ленточнице Нине Кадниковой – слушательнице подготовительных курсов текстильного института.
Втроем они и были тогда сфотографированы для газеты: две совсем юные девушки, слушающие объяснения столь же юного мастера, заместителя секретаря комитета ВЛКСМ «Красного Перекопа».
Эту тройку связывала настоящая дружба. Они понимали друг друга без слов и строили занятия необычно: без заранее намеченного расписания, потому что в работе вопросы возникают не по графику и решать их надо незамедлительно тут же, в цехе. И девчата обращались к своему наставнику сразу же, как только обнаруживалось затруднение. Случалось это сплошь да рядом, а Юлий всегда спешил на помощь.
Ему самому приходилось нелегко. Подопечные учились, сам он стремился приобрести столь необходимый опыт, поскольку делал фактически первые шаги в самостоятельной деятельности. Возрастной диапазон в их тройке был невелик – от восемнадцати лет у самой младшей до двадцати двух у старшего.
Случилось так, что первый газетный снимок будущей «Чайки» и ее друзей был опубликован накануне существенных перемен в их жизни. Коснулись перемены всех троих, и прежде всего Юлия Батурина: он стал секретарем Красноперекопского райкома ВЛКСМ. Но друзья продолжали внимательно следить за работой и учебой друг друга, продолжали встречаться, чтобы поделиться новостями, услышать дельный совет.
С Валентиной Юлий чаще всего виделся на занятиях в вечернем техникуме, где читал курс по экономике, организации планирования текстильного производства. Валя была старостой группы. И не случайно Юлий одним из первых заговорил о ее кандидатуре, когда речь зашла о новом комсорге «Красного Перекопа», разглядев в Терешковой черты вожака.
Каждый из них по-своему, но с одинаковой решимостью и упорством шел к поставленной цели. Нина Кадникова поступила в вечерний текстильный институт, стала членом комитета ВЛКСМ комбината. В 1962 году товарищи избрали ее комсоргом фабрики № 2. Юлий принял очень серьезное личное обязательство: сдать экзамены в аспирантуру. Когда экзамены были сданы, последовал вызов на занятия. И случилось так, что на пути в Москву его попутчицей оказалась Валентина Терешкова. Тогда она еще не могла намекнуть на события, которым предстояло произойти в ближайшем будущем. Но в темах для разговора недостатка не было: друзья оставались верны своему общему делу.
Виделись они и в Москве: вдали от дома особенно тянет к землякам. Валентина, бывало, наведывалась в общежитие студентов-текстильщиков. Подчас чувствовалось, что ей хочется просто отдохнуть в товарищеском кругу. Объяснение усталости было коротким: «Много работаю». А скажи тогда молодым аспирантам, что сидит среди них завтрашний космонавт-6 – не поверили бы.
Юлий, несмотря на загруженность учебой, оставался верен себе. Он был председателем научного студенческого общества, членом парткома института, членом ученого совета. Темой диссертации взял создание чесального агрегата, причем экспериментальную часть разработок проводил дома, на «Красном Перекопе», хотя можно было сделать это в институте. Но в рабочем коллективе лучше видишь, каким путем идти. А здесь, на комбинате, оставалась его родная трудовая семья. Здесь работали и дед его, и отец – тоже бывший секретарь Красноперекопского райкома комсомола, тоже выпускник Московского текстильного института, погибший на фронте…
Мы встретились с ним десятилетие спустя у больницы Семашко. Он работал во ВНИИАТИ научным сотрудником, кажется, защитил кандидатскую диссертацию. В общем, преуспел. Мы долго говорили, вспоминая юность комсомольскую, и, не удержавшись я спросил, не жалеет ли он, что в лице Вали упустил такую невесту?
– Смеёшься, что ли, – ответил Паша. – Никогда меж нами ничего не было и быть не могло, кроме занятий по подготовке к техникуму.
– Но ты хоть на встречу с ней после полета ходил?
– Конечно.
– И как?
– Да не подпустила меня охрана. Она сама подошла, поговорили накоротке…
– Выходит, не забыла.
– Выходит, нет.
Паша умер в расцвете лет и сил от рака.
Еще продолжался её полет к звездам, но уже готовились экстренные выпуски газет, ведь обычно по понедельникам газеты не выходили, ибо воскресенье – выходной у полиграфистов. Но тут к утру понедельника газеты вышли. Они наполнялись откликами, приветствиями, стихами. Правда, стихи, в основном, дежурные, казенные. Так, известный поэт Сергей Смирнов в «Правде» – главной газете страны– разразился стихотворением с такими строками: «Я чту полет такого рода. Он устремляется в века. В нем – дерзость нашего народа и воля нашего ЦК».
Те послеполетные дни оказались наполненными событиями яркими, совершенно ни на что не похожими и потому запоминающимися. Готовился приезд большой группы иностранных журналистов. Это к нам-то на Перекоп, куда и своих-то журналистов бывало не дозовешься. Областное руководство в суете и панике.
С жильем после переезда из деревни у Терешковых всегда были проблемы. Жили в семиметровой коммунальной комнатке. Валентина спала на кровати с матерью, брат Володя – на стульях. Однажды решилась Елена Федоровна обратиться к директору комбината, объяснила, как могла, что тесно, мол, с тремя детьми в маленькой комнатушке. В ответ услышала: «А ты зачем их нарожала? Нет у меня квартир». Она заплакала и ушла. Детям наказала: никто никогда никуда не будет ходить с просьбами. И только когда Валентина стала секретарем комитета комсомола, директор укорил, дескать, что же ты молчишь, коль в такой тесноте живете. И вскоре Терешковы переехали в другую комнату: целых 15 квадратных метров, с печкой, коридорной системой и общей кухней. Радости не скрывали: теперь можно и диван для брата поставить.
Они жили на улице 8 марта, пересекавшей нашу улицу Закгейма. Но если наша была заасфальтирована и даже тротуары вдоль домов имелись, то их улица представляла обычный грязный и пыльный проселок с рядами покосившихся одноэтажных деревянных домов, с заваливающимися в разные стороны заборами, с удобствами на улице, с водой из колонок и сворами шастающих злющих собак.
Позже сотрудник ярославского музея-заповедника Маргарита Карпухович вспоминала:
– Когда Валентину зачислили в отряд космонавтов, наконец-то им дали квартиру. Обстановка очень скромная, телевизора, радио не было, не было даже вазы для цветов. Мама Елена Федоровна нам с гордостью показывала подарки Вали – пуховый платок и кофточку. На второй день после полета директор комбината подарил телевизор «Рекорд», а мы – скатерть и вазу. При этом разговоры ходили разные. Однажды утром ехали к Валентине Федоровне в трамвае, а перекопские женщины прямо обсуждали, что матери Терешковой привезли машину мебели, ковров. Не утерпела, вступила в разговор, сказала, что это неправда. Не знаю, поверили ли мне …»
Зато я знаю: нет, не поверили. Уж очень разнились слова партийных руководителей с их поступками. А здесь речь шла не о чести и достоинстве, а кресле под собой. Что ж, такую бедность и показывать иностранцам? Да руководитель области и дня в своем кресле не просидит после такой презентации. Не стану говорить насчет мебели, но знаю, как срочно туда протянули линию телефонной связи. А принимал объект лично первый секретарь обкома КПСС товарищ Лощенков. Как и положено руководителю такого ранга, нашел недостаток:
– Почему телефонный аппарат черный, срочно сменить на белый.
И сменили. У меня, кстати, сохранилась любопытная газетная фотография с такой подписью: «Март 1971 года, Москва. В. В. Терешкова с дочкой Аленкой и Ф.И.Лощенков перед заседанием ХХIV съезда КПСС”. Федор Иванович в совершенно нехарактерной для себя позе угодливо согнувшегося перед улыбающейся дяде девочкой. Это он-то, не считавшийся даже с первыми лицами областного центра и уж тем паче районов, и вдруг прогибается перед ребенком. Да, прогибается. Ребенок-то чей? Вот то-то и оно-то. Опытный царедворец Федор Иванович, без сомнения, использовал славу первой в мире женщины-космонавта и симпатии к ней первых лиц государства для укрепления своей единоличной власти в области, не особо вникая в суть её личных проблем.
В свое время, анализируя книгу «Эпизоды из жизни и деятельности Ф. И. Лощенкова», журналист Виктор Храпченков отмечал: казалось бы, бывший первый секретарь обкома партии должен лучше всех знать о космических и земных делах “Чайки". Но он все о себе да о себе. Даже поездка в Звездный городок после травмы будущего космонавта-6 на тренировке стала очередным камнем в собственный пьедестал:
«Другие претендентки на полет в космос не чувствовали такой заботы и внимания со стороны своих партийных организаций. Руководители обкомов даже не знали, что их девушки учатся на курсах космонавтов. (Кстати, что за курсы такие?)»
Еще чище объясняет «царь Федор», почему именно Терешкову Ярославль делегировал в отряд космонавтов: «В аэроклубе выделялись две подружки: Татьяна Морозычева и Валентина Терешкова. Однако при отборе выяснилось, что Морозычева беременна, и поэтому счастье выпало на долю Валентины Терешковой». Материнство что же – несчастье?
Сообщение ТАСС о полете первой в мире женщины-космонавта с особой радостью встретили все лично знавшие её по учебе, работе, спорту, повседневной жизни. Многие из них сами оказались в поле зрения вездесущих журналистов, фотокорреспондентов, но, прежде всего, спецорганов.
Буквально на следующий день в районе “Перекопа" появились легковые машины с московскими номерами. Пассажиры их обошли фабрику, дом, где прежде жили Терешковы, ходили по квартирам, собирали любые документальные свидетельства о жизни ярославской героини. Доверчивые перекопцы охотно делились ими, отдавали все под обещание скорого возврата. Лишь значительно позже стало известно, что сбор свидетельств жизни Валентины до полета в космос одновременно с настоящими журналистами осуществляли представители спецслужб. Руководствовались благой целью: обезопасить её от любого возможного компромата. Но никакого компромата не было, да и быть не могло. Вся жизнь её прошла на виду сотен человек, в глазах которых она оставалась бесхитростной, открытой, доброй и отзывчивой.
Изъятие всевозможных фотографий и документов провели столь стремительно и слаженно, что сама операция так и осталась бы в неизвестности. Но позже часть этих документов поступила в музеи. Откуда? Да оттуда! Вернулись не все документы и фотографии, далеко не все.
С одним из сохранившихся удалось ознакомиться и переснять его, работая в многотиражке шинного завода «Заводская правда». Я тогда довольно часто бывал в заводском музее, стал там настолько своим, что получил доступ ко всем фондам. Оттуда извлек однажды обычную «Заявление-анкету», заполнявшуюся всеми новичками при поступлении. Приглядевшись, обомлел: на маленькой фотографии 3х4 – Валентина Терешкова. Та же короткая стрижка, прямой взгляд, упрямо сжатые губы. Ниже заполненная ею собственноручно анкета, датированная 18 июня 1955 года. То есть тут ей всего восемнадцать лет.
Что же она отвечала на поставленные вопросы?
Завод – ордена Ленина Шинный.
Зачислен на должность – закройщица
Цех – №5
ФИО – Терешкова И. – Валентина О. – Владимировна
Точный домашний адрес – улица 8-ое марта, дом 14, кв.2
Заявление-анкета
Прошу принять меня в цех №5 на должность закройщицы
О себе могу сообщить следующее:…
Заполнение всех пунктов обязательно. Писать четко и без помарок. Лица, дающие о себе неверные или неточные сведения, будут привлекаться к ответственности. (Далее за поставленной кадровиком галочкой подпись самой соискательницы, по-школьному четкая и с маленькой помаркой).
Для правильного заполнения прежде чем ответить на вопросы, подробно ознакомьтесь со всеми вопросами анкеты.
1. Время и место рождения – 1937 6/III. Д. Масленниково Тутаевского р-на Ярославской об.
2. Точно указать сословие или происхождение до революции (из крестьян, мещан, дворян, купцов, духовного звания, военного сословия). – Из крестьян-бедняков
3. Родители:
а) фамилия, имя, отчество (указать девичью фамилию матери);
Терешков Владимир Аксёнович, Круглова Елена Федоровна
б) сословие и происхождение;
– из крестьян
в) владели ли недвижимым имуществом, каким именно и где;
– дом, сарай, баня по месту моего рождения
г) чем занимались до революции (указать конкретно);
– с/хозяйством
д) чем занимаются и где находятся (точный адрес) в настоящее время
отец – погиб во время финской войны 1940 г.
мать – работает на комбинате Красный Перекоп
4. Ваша профессия и специальность – закройщица
5. Национальность – русская
6. Подданство (гражданство) – Гражданка СССР
Любопытная анкетка, правда? Валентине до полета в космос и общемировой известности остается совсем ничего, а у неё пытаются выяснить, не духовного ли звания или тем паче не из дворян ли? Меня особенно поразило недвижимое имущество будущего космонавта, такое, как «баня по месту моего рождения».
Не могу не сказать еще об одной интересной подробности. Я уже трудился редактором в институтской многотиражке и близко сошелся с заведующим институтским архивом Михаилом Александровичем Эктовым. Я частенько спускался к нему в подвал, мы покуривали, коротая время за разговорами обо всём и ни о чём. Ну, как обычно. Однажды речь зашла о Терешковой, и он мне поведал, что в свое время она поступала в наш институт, но то ли не сдала приемных экзаменов, то ли не прошла по конкурсу, не помню. Я сразу, как гончая, идущая по следу, сделал стойку.
– Точно?
– Точнее не бывает, – ответил он и повел в недра свои, где показал толстый журнал, фиксировавший получение документов на прием. Нашел и показал фамилию Терешковой с её инициалами.
– А личное дело покажешь?
– Увы…
– Почему?
– Уже через день после полета ко мне пришли товарищи из органов и забрали все, что касалось Валентины.
Признаюсь, данной подробности биографии Валентины Владимировны я более нигде не встречал. Это к тому, что путь её в космос не был прямым и предсказуемым.
В родной Ярославль она прибыла через месяц после полета. Был торжественный проезд в открытом автомобиле по улицам города. И встреча с земляками на стадионе шинного завода. У меня сохранился пропуск на этот митинг, дававший право находиться под гостевой ложей. Я внимательно следил за ней, а когда она выступала и посмотрела в нашу сторону, помахал ей рукой. И мне показалось, что она улыбнулась. Кому? Не знаю. Хотелось верить, что мне…
Вспоминается и приезд её на родной «Перекоп». Я тогда подрабатывал в городском пионерском лагере. Кормили ребят в фабричной столовой. Помню, прямо на стене «новой» фабрики моментально из ничего появились два огромных портрета. На одном Валентина, на другом – её напарник по полету Валерий Быковский.
В день приезда нам вначале задержали обед, потом пропустили через проходную, но попросили с едой не затягивать. После обеда вместо того, чтобы двинуться в Рабочий сад (место нашей дислокации), мы остались у проходной, стараясь не прозевать приезд Валентины. Народу скопилось море: толпы от Комсомольской площади до самой проходной, а уж у Белого корпуса – не протолкнуться.
Ждали долго в надежде увидеть её поближе, да не дождались. Её привезли на катере по Которосли, и на фабричный двор она попала с тыльной стороны, где и заборов не было. Обхитрила охрана.
По третьему кругу
Лето пролетело, оставив в памяти размытые метки. В конце августа, дней за пять до начала занятий, приехал в Бурмакино. Почти как домой. Натаскал воды, убрал в своей комнате. Дед от радости выставил бутылку невесть откуда взявшегося коньяка, и мы пропустили по рюмочке за вечерним чаем. Софья Васильевна интересовалась здоровьем матери, моими отношениями с Валентиной (она уже закончила работу в Бурмакине и преподавала в какой-то городской школе), планами на будущее.
– Уж очень хочется, чтобы вы остались у нас. Ребятня летом надоела с расспросами насчет вас.
– Вряд ли останусь, Софья Васильевна. И не потому что не нравится здесь. Я другую работу люблю.



