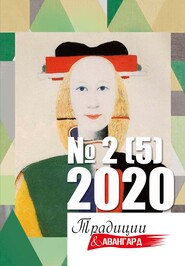скачать книгу бесплатно
Лет в четырнадцать Виктор принес «рассказики» в школьной тетради. Слава, уже студент Литинститута и «настоящий писатель», брезгливо листал страницы, насмешливо морщился, а потом, прочитав про пьяницу-мать под забором и слезы мальчика, постеснявшегося признать ее при друзьях, возрадовался своему наитию и со страхом дивился верности судьбы, выведшей его на этого пацана.
– Да это настоящая проза, Виктор!
– У меня еще много таких проз, брат!
«Как восхитительно и радостно парит в небе чайка, вместе с ней парит и возносится, мечется и опадает моя душа. И не верится, что это та же самая птица, когда она приземляется – грузная, безобразная, – с обыденным бесстыдством копается в объедках на пляже». А еще там были аплодисменты листьев, срывающихся с осенних деревьев, к которым вдруг прислушивается ожиревшая, расхотевшая летать чайка. Где он мог в Ялте услышать эти аплодисменты? Напыщенно, будто списал у какого-то манерного автора.
* * *
Едва доносится шум прибоя. Вдали – бесстрастное гладкое море. И взгляду с поразительной четкостью досягаем серебрящийся запредельный проход меж потолком неба и полом моря. Внизу, под опорной стеной кафе, кто-то нервно громыхает галькой и кричит в мобильник:
– Не понял! Еще раз!
Длинный, худой и дерганый представитель от Союза письменников, с простым и каким-то неписательским лицом, бывший военный, кажется.
– Мне уже час как в Симферополе надо быть! Нет, я просто недоумение свое выражаю, – он отвечал кому-то, чей голос едва угадывался.
Жесткий, будто из пластмассы пиджак с негнущимся дешевым блеском и эти туфли с загнутыми вверх мысами – как же любят местные чиновники именно эту модель – «лыжи». – Да какой писатель, я тя умоляю! Че он написал-то?! Книжонка с рассказиками в эсэсэровские времена. Мне просто из Москвы позвонили, а так бы… Это что, мои прямые обязанности – каждого московского алкаша хоронить?
Дурак! И я дурак. Пусть я лукавил в чем-то, таил свое когда-то, но я не мог уже бросить этих хрустальнейших детей, каждого тащил как мог. Сколько сил, нервов моих и матери, сколько денег ее потрачено! А главное – времени сколько ушло! И не комедия, и, в общем-то, не трагедия. Дырки от общества… Какой же это был год? В комнате сумрачно. На улице, над подвалом, тускло светится вывеска общества слепых. Вскрикивает чайка на куполе бывшего госпиталя. Еле видимый в кресле у окна, что-то читает Витька, еще в армию не ходил.
– Ты чего в темноте?
Включил свет и поразился его бледности. Листает страницы – и вдруг, по-дирижерски вскинув руки, сполз на пол и захихикал, потом в шутку пополз к нему по-пластунски, но с таким исковерканным лицом, что Слава отпрянул – Витька не смеялся, рыдал:
– Таньку с пятой бани изнасиловал!
– Как?! – Слава и сам засмеялся от ужаса.
– Раком!
Слава снова усмехнулся нелепой шутке.
– Все, Славик! Кончилась моя судьба! – и рыдает.
Как когда-то под лестницей, рядом с комнатой техничек, беззвучно рыдала восьмиклассница Говердовская. Красавица с синдромом отличницы. Лучше всех писала сочинения, обсуждала с ним «Анну Каренину» – Слава вел у них одно время литру – и вдруг забеременела.
– Как же такое могло произойти, Таня? – с горькой задумчивостью изумлялся Слава и вроде бы смотрел в классный журнал, а сам с неподотчетной брезгливостью, ревностью и страхом пытался разглядеть в этом ангеле темное, не подвластное никому.
Чайка кричала на куполе, и Витька горько плакал.
На то, чтобы Танька с пятой бани забрала из прокуратуры заявление, ушли все его сбережения, еще и у матери пришлось занимать.
* * *
– Друзья! А помните?..
Ноябрьский туман. Море и небо неразличимы. В мягком, тускло-белом космосе замер серый катерок, а гораздо выше над ним, в дрожащей эфирной бездне, стоят яхты с тонкими, как свечи за десять рублей, мачтами.
– А это что за салатик, не в курсе?
– Соль и кипяток бесплатно, пиво только членам профсоюза.
– А вот чуть не забыл…
Помню и я – как спасал Витьку от кулаков озверевшего пьяного Толика – он колошматил его головой об асфальт, а я ладонь под затылок подставлял. В армию, в Барнаул, отправлял посылки с продуктами, деньги и книги посылал. Хоть там у него нашлось время «Антоновские яблоки» и «Фро» прочитать. После службы стал возить его в Москву и Ленинград. Лившиц натаскивал его по литературе, особенно по любимым своим акмеистам. Знакомил с творчеством русской эмиграции, но говорил, что Витька истероид с резиновым стерженьком.
– Ну а я с каким, Эммануил Хаимович?
– Вы сфинкс, Слава. У вас стальной стержень.
Как-то Витька разнес «Подвиг» Набокова, а Слава снисходительно думал – он просто злится на что-то, ревнует его к Лившицу. Мало ли чего. Тогда уже одно слово «запретное» делало каждый роман «оттуда» гениальным. Только сейчас, по второму прочтению, Слава и сам разглядел, что «Подвиг» в чем-то слабоват, ну, юношеский романчик. А у Витьки было врожденное чутье. Ведь было! И писал хорошо, не по-советски, дано было неистребимое драгоценное слово.
Но ужас братьев продолжался. Первым ушел Толик.
– Толька умер, на…! – коротышка Дуська поджидала Славу после уроков.
– Как умер?!
Толька умер нелепо и романтично, как и жил. На стройке в Мухалатке он и Кларка-колеровщица, очередная подруга его, попросили крановщика поднять их на крюке – на море посмотреть с высоты полета чайки. Как до такого додуматься? Пьяные наверняка были. Крановщик их поднял, но что-то там заклинило. Кларка выжила, упала на Тольку.
Потом мать умерла от цирроза печени. Перед смертью успела послать врача: «А подь-ка ты на…!»
А младший ее попался на краже. Самое ужасное – на тот момент дома у Славы в столе уже лежал и отсвечивал столичным лоском вызов: В. Б. Малаховский прошел творческий конкурс и допускается к экзаменам в Литературный институт.
О боже, какой же непроходимый дурак! Слава все-таки впихнул Витьку в Литинститут, в котором сам еще учился на заочном. Экзамен по английскому Витька сдал за счет рассказа об акмеистах. Но все равно не прошел. В списках поступивших его фамилии почему-то не было. Запил, связался с какой-то извращенной мажоркой из кэгэбэшной семьи. Уже в конце сентября Славе позвонил комсорг Литинститута: «Поступил я твоего Малохольного. Пусть на лекции ходит. Где он?»
Может, и не надо было всего этого. Но где, где тогда мог оказаться этот человек, который, продолжая семейную традицию, подворовывал и пил все больше и больше? И с годами шел только в одном направлении.
* * *
За столами становилось громче. Люди неподотчетно хотели веселья. Не покидало странное ожидание, что сейчас сюда придет Витька, со смущением новоприбывшего присядет с краю, тихо спросит, по какому поводу банкет. Это все не проходила легковесная инерция жизнепроживания, как и в тот момент, когда Слава с порога почувствовал в своей квартире теплый и сладковатый, на грани противного, запах и сразу понял источник его. «О- о, брат, да от тебя уже трупом попахивает!» – мгновенная шутливая мысль и, как всегда, тут же – стремительный позыв, что можно исправить и эту незадачу в Витькиной судьбе. Так интимно и раскрыто пахнут только новорожденные и умершие.
* * *
Шум прибоя – вдруг врывающийся в мысли, так неожиданно шумно вспухающий, что хочется вскрикнуть: «Хватит»!
– А помните…
Как же странно смотрелась за столами небольшая группа людей, знавших его эпизодически и пытавшихся придать воспоминаниям интимный характер! Они, не переставая, читали свои стихи, задаривали друг друга никому не нужными книжонками, изданными за свой счет или по благотворительности местных олигархов. Один из них сидел поодаль, закинув ногу на ногу и листая свою книгу в золотом тиснении. Плотная бумага сияла дорогим глянцевым блеском. Ленточка-закладка на сквозняке трепетала над книгой. Автор явно ждал слова и нервно листал «себя». Твердое моложавое лицо, темные принципиальные глаза руководителя, морщинки в уголках, родинка на щеке.
Люди бесхитростно радовались возможности вот так посидеть, выпить, распалить себя прочувствованным словом и прочесть свое. Внезапная смерть в общем-то не старого еще, известного земляка сообщала всему особую тревожную сладость. Помягчели и расплылись тела, развязнее стали жесты, словно люди, скорбно сидевшие в начале, ушли, а на смену им явились другие. Покраснели соседки с боков, затуманились глаза дымным хмельком. Пожилая дама в шляпе уже посматривала на Славу с женским, ироничным и в то же время робким интересом в глазах. Надо же, этот огонек не погас в ней, как это часто бывает даже с молодыми женщинами – серыми, будто присыпанными пеплом.
– Я сегодня поэт, а завтра не поэт и прошу не вешать на меня ордена! – худая женщина с косматой головой и желтым, морщинисто-нервным лицом выговаривала полупьяному соседу, но в то же время посматривала на остальных, ловила взгляды, слушают ли. – Это вообще сто восьмой круг от когда-то брошенного камня! Озеров, кажется, сказал. Не помните?
– Господи, как хорошо, что хотя бы бардов здесь нет!
– А вы хлеба не подадите?
– Какого? Кто так раскладывал? Белый на одном краю, весь черный на другом!
– У вас рукав в безе.
– Вот, возьмите… Понимаете, стихи отрастают. Это вызов. Это интимно. Я не хочу, чтобы трогали руками! – кому-то незримому доказывала дама. – Я пишу и не хочу никому давать. Нельзя никому объяснить, почему этот стих хорош. Все стихи оказываются всего лишь эхом. Они нисходят, диктуются свыше, что ли. Как их можно судить?
Мужчина, какое-то знакомое лицо, подпирал рукой тяжелую, хмельную голову, а в глазах – маслянистая задумчивость с одним только вопросом по плотской части, но слабым, издевательски ленивым. Женщина это чувствовала и раздражалась:
– Начитанность видна, понимаете? Никто не хочет тратиться. Олеся Склянская-Ондар тратится по-другому. Что? Нет, вы молчите, просто молчите. Симулируйте не- решение.
– «Русский стандарт» – это хорошо, – медленно выговорил мужик и поднял рюмку. – Но жестковато, жестковато.
Люди пили, смотрели на часы, вставали, говорили свое «я помню», и тут же это начинали другие, от нервности обозначая свою продолжающуюся жизнь.
– А помните, совсем недавно они с женой вели «Чеховскую осень»?
Витька и Магда, как писатели из Москвы, заседали в жюри самого известного ялтинского фестиваля.
– Я помню: стоят на сцене! – восхищается мелкая, мышкообразная женщина, сияя глазами и нервно прихлебывая из рюмочки. – Она читала свои стихи, забывала, и он подсказывал ей строчки, продолжая читать за нее. Это было так трогательно!
Слава там сидел в первых рядах, смотрел на него и гордился до слез. Конечно, это «Ливадия» уже стукнула в голову, но было приятно, честно! Господи, сколько у Виктора было хороших девушек, которые могли создать быт, как-то выправить его писательскую судьбу. А он выбрал Магду. Встретились они в общаге. Магда была в желтой кофте под Маяковского, с сигаретой. Начался литинститутский роман. Люди были одинаково несчастны, и это, наверное, повело их дальше. Сошлись, чтобы мучить друг друга.
Слава покурил как-то с ними в институтском дворе. Поговорили, разошлись. Обернулся, глянул, как шли Виктор и Магда, одинаково сутулясь, и вдруг почувствовал, что надолго это у них.
* * *
– Да, умирают поэты. Вспомните Нику Турбину. Как плохо все кончилось.
– А кто же все-таки отец девочки? Говорят, Евтушенко?
– Ой, все!
* * *
Общежитская комната перестала быть спасением. Нужно было просто-напросто устраивать жизнь. Витька – бездомный. Ялтинскую каморку мать его уже потеряла. Магда была родом из какого-то зауральского, возведенного на костях врагов народов, радиационного моногорода, возвратиться в который никак не могла. Там когда-то мать, бухгалтерша засекреченной шахты, гонялась за ней с топором.
* * *
– А Сережа Новиков, покойный, под конец стал говорить, что это он отец Ники Турбиной. Видимо, своей славы уже не хватало. А ведь в «Новом мире» стихи публиковали. Дружил с московскими поэтами.
– Странно погиб, если не сказать – криминально.
– Еще бы! Имея такой дом и собственный двор!
– Эх, какой там был бумажный ранет! – вырвалось у Славы.
* * *
Магде повезло в Москве. Пожилому товарищу мужа Татьяны понадобился для улучшения жилища фиктивный брак. Так Магда получила прописку. Потом ее взяли дворничихой на «Соколе», выдали ключи от комнаты в коммуналке. Жили бедно и трудно. Магда бегала на работу в рваных сапогах. Сашка у них тогда уже родился. Ложился спать голодным. Оставался один на один с самим собой. Мог сутки напролет смотреть телевизор, потом его тошнило от этого. Слава в свои приезды привозил ему пальто и обувь, рыбий жир и крымские фрукты. Ребенок примирил его с Магдой, как-то узаконил ее появление в жизни Виктора.
* * *
– А помните… Как же не помнить?
* * *
Они сидели вдвоем с Витькой на общей кухне. Сашка, лет восемь ему было, что-то чертил фломастером на обоях в соседней комнате. Магда к нему подошла.
– Саша картиночки рисует, мой хороший! А вот еще посмотри, там прямо картина, два гомосексуалиста на кухне, – отчетливо услышали они ее голос. – Ты знаешь, кто такие гомосексуалисты?
Виктор вскочил. Слава едва удержал его за руку.
– Вот что, что мне с ней сделать?!
Каждое утро Магда, пока не выпьет кофе и не выкурит сигарету, начинала с мата и разборок. Но вывести человека из себя она могла и одним молчанием. Шло от нее такое, что человека трясти начинало. Копалась в сумках Славы, рылась в записных книжках и письмах. В медицинской энциклопедии полуоторвала и скомкала страницу со статейкой о гомосексуальности.
Витька делал вид, что бегает по каким-то подработкам. Сил тянуть воз семьи у него не было. Ерничал, чувствуя себя примаком. Пил. Пять раз он кодировался по воле Магды, пока ему не стало плохо в метро. Врачи говорили, что если у человека нет воли, то кодироваться бесполезно. А она безжалостно настаивала на этом.
– Ты один тут, Саша?
– Да.
– А где же папа?
– А мы почитали с ним «Глупый шмель, золотое оплечье», и он ушел. Как всегда, в «стекляшке» пьет.
Славе казалось, что это литература мучает его. Теперь ему было не до критики Набокова. Напившись, Виктор обещал выдать гениальный роман о своем советском детстве, говорил, что перестройка произошла только ради того, чтобы он создал эту книгу. Обещания забывались. Пропадали сюжеты. От наблюдений и схваченных чувств оставались сухие скелетики, так и не обросшие литературной плотью. Мелкая суета жизни засоряла мозг, вышибала из творческого состояния. Собраться и сосредоточиться Виктор не мог, да и не было места и времени сесть хотя бы записать что-то. Так складывалась судьба. Она вся насквозь состояла из сочинений одних для других.
Осень была творческим сезоном Виктора. Голова у него прояснялась. Кажется, он и пил меньше. Однажды в октябре Слава напросился присмотреть за дачей мастера своего семинара в Переделкине. Василий Петрович собирался в круиз.
– Не заливай мне! – шутил он. – Небось бабу хочешь сюда притащить?
«Ну да, прямо как вы на мою квартиру в Ялте!» – едва не вырвалось у Славы.
Он привел туда Виктора.
– Вот, садись и пиши! Тут столько было написано, что и у тебя само собой получится, – командовал с угрюмой радостью. – Только дачу не спали!
Попрятал алкоголь мэтра, по-хозяйски показал, как пользоваться газовой горелкой в ванной, еще что-то и оставил его одного. Радовался его творческому уединению в тиши писательской дачи. Через неделю поехал проведать, купил продуктов на станции, «Рислинг», отметить рассказ или что он там написал за это время. Смеялся про себя, представляя, как его встретит Витька – голодный, обросший, счастливо-творческий.
Поредевший парк Дома творчества. Сочно проминалась хвоя под ногами, скользила. Зеленоватая у берега и дальше – пресно-светлая поверхность пруда. Маслянистая вода казалась мягкой и теплой. Такая спокойная, что в отражении среди розоватых с подпалинами облаков виден летящий высоко в небе бескрылый самолетик. Он дребезжал, слоился, терялся занозкой. У берега шелохнулась поверхность, легко и коротко чиркнула рыба, и ощущение, будто рыба приподняла, приоткрыла воду. Распластался пришитый к воде водомер.
Странно: уличные ворота были закрыты на задвижку, пришлось обходить со стороны леса, где имелся тайный лаз в заборе. Заворожила странная избирательность солнечного луча. Вдруг в лесу, среди тысяч желтых листьев, вспыхивает и разбухает светом, трепещет солнечным зайчиком, истончается насквозь просвеченный один-единственный лист… Солнце меркнет вдруг, и не видно уже этого избранного, и не найдешь никогда в желтом сонме.
Со двора доносились крики. Чертыхнулся, сдвинул с раздражением доску и отпрянул. Меж черных стволов по желтым листьям бежала ослепительно обнаженная женщина. На розовато-синее, влажно и лаково блестящее тело налипли хвоя, листья. В движении груди плескались, сочно шмякались друг о дружку и разлетались в стороны. Раздувались тонкие ноздри, мышцы лица дергались, раздираемые страстью и веселым азартом, они двигались так, будто по ним изнутри, как по жирному холсту, хаотично водили пальцами. Пьяный дым в глазах. Она сдерживала крик, но он невольно прорывался, прыскал слюной, кривя и выворачивая по краям смачные губы. Голый Витька ухал и носился за нею, видимо, подражая какому-то орангутангу. Хотя он и без этого обезьяна. Курчавились измазанные грязью волосы на руках, груди и бедрах. Сколько было в этом сладчайшем угаре печального и непоправимого упоения! Он был все-таки красив, притягателен. Слава двинул доску на место. Почувствовал, как тянет руку сетка с продуктами. Стукнула дверь. Через минуту хлопнула форточка. В абсолютной тишине с истерически смеющимся вывертом падал лист. Еле двигая онемевшими в отчаянии ногами, пошел на кладбище, выпил полбутылки с Борисом Леонидовичем.
* * *
– Но ведь было дело, говорили, что чуть ли не Евтушенко отец Никочки?