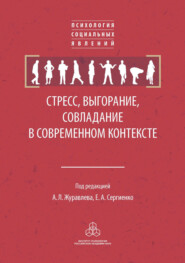скачать книгу бесплатно
Стресс, выгорание, совладание в современном контексте
Коллектив авторов
Психология социальных явлений
В книге представлено теоретико-экспериментальное исследование проблем регуляции человеческого поведения, которое открывает новые перспективы, дает новые решения интенсивно разрабатываемых вопросов стресса, выгорания и совладания. Раскрываются проблемы стресса, постстрессовых состояний, профессионального стресса и выгорания, психологии совладания со стрессами и выгоранием у людей разных профессий, особенности совладания в семье, проблемы соотношения защитных механизмов поведения и их онтогенез.
Стресс, выгорание, совладание в современном контексте
© Учреждение Российской академии наук Институт психологии РАН, 2011
* * *
Предисловие
Представленная коллективная монография является оригинальным трудом ведущих специалистов в области стресса, выгорания и совладания. Монография, объединяя все три психологических феномена, делает шаг вперед к интегративному изучению тесно связанных психических явлений. Изучению этих феноменов были посвящены монографии, например, В. А. Бодрова (2006), Т. Л. Крюковой (2010), В. Е. Орла (2005), Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой (2008), Н. В. Тарабриной (2009), Е. А. Сергиенко, Г. А. Виленской и Ю. В. Ковалевой (2010). Однако единой, взаимосвязанной картины, отражающей поиск общих оснований фундаментального анализа возможностей человека реагировать на стресс, преодолевать стрессовые состояния и противостоять психическому выгоранию, не только сохраняя психическое здоровье, но и развивая и умножая свои способности по адаптации и регуляции собственного поведения, до настоящего времени не было.
В данной монографии представлено современное состояние изучения проблемы стресса, выгорания и совладания наряду с последними экспериментальными исследованиями в соответствующих проблемных областях. Подобное сочетание теоретического анализа и экспериментальных результатов позволяет получить объемное представление о современных тенденциях в разработке фундаментальных психологических проблем адаптивного поведения человека, его возможностей сопротивления, самосохранения и саморазвития. Логика коллективной монографии позволяет проследить реализацию теоретических вопросов психологии защитного поведения в конкретных исследованиях. Обобщение результатов изучения самых острых и социально значимых проблем психологии стресса, выгорания и совладания предпринято впервые и является новым опытом интеграции разных областей и направлений психологического поиска в одном труде.
Каждый раздел монографии открывается теоретико-аналитическим обзором по соответствующему направлению, а проблемные вопросы раскрываются в конкретных экспериментальных исследованиях.
Проблема стресса, выгорания и совладающего с ними поведения по-прежнему остается фундаментальной научной проблемой, на решении которой в последние годы были сосредоточены усилия ученых разных специальностей и направлений. Ее актуальность обусловлена, в первую очередь, ростом драматических событий и явлений в нашей жизни из-за нарастающих воздействий экстремальных факторов экологического, техногенного, социального характера, вызывающих изменения в психическом статусе, развитие неблагоприятных психических состояний и расстройств психогенной природы. Эти воздействия и психические реакции на них влияют на состояние личностной сферы и межличностных отношений, отражаются на работоспособности, профессиональной эффективности и безопасности труда, состоянии здоровья и профессиональном долголетии, влияют на качество жизни и состояние общества в целом. Кроме того, в большинстве техногенных катастроф человеческий фактор складывается, прежде всего, из реакций на стресс и возможностей его преодоления. Хотя стресс и одно из его последствий – психологическое выгорание – активно изучается, механизмы стресса и возможности его купирования, преодоления остаются недостаточно изученными. Более того, феномен психологического выгорания начал систематически изучаться совсем недавно – с 1990-х годов. При этом открытыми остаются вопросы о критериях выгорания, его обратимости – необратимости, факторах предотвращения выгорания, сохранения психического здоровья и эффективности профессиональной деятельности.
В современной психологии стресс, выгорание и совладающее поведение – это области междисциплинарных исследований, требующие системных, комплексных моделей анализа. Следовательно, их фундаментальное изучение предполагает не только применение системной методологии исследования, междисциплинарных подходов, но и совершенствование методического инструментария и методов математического анализа. Современные требования к изучению феноменов стресса, выгорания и совладания переводят научный поиск на новый уровень исследований и обобщений, что необходимо для выявления механизмов стресса, психологического выгорания и понимания возможностей совладающего поведения, преодолевающего и сопротивляющегося стрессу.
Одним из новых направлений, разрабатываемых в отечественной психологии, является концепция посттравматических состояний, отличная от представлений о непосредственном реагировании на стрессовые ситуации и события. Разработка критериев посттравматического стресса, факторов и условий его возникновения требует как теоретических, так и экспериментальных усилий. Кроме того, необходимо не только классифицировать внешние факторы, вызывающие посттравматический стресс (боевые действия, природные и техногенные катастрофы, террористические акты, физическое и психологическое насилие), но и выявить индивидуально-психологические особенности сопротивления травматическим факторам среды, динамику преодоления травматических воздействий, длительность и последствия травмы. Психология выгорания тесно связана с психологией стресса, поскольку феномен психологического выгорания наблюдается в ответ на длительные стрессогенные условия. Психология совладающего поведения – недавно возникшая область психологической науки – ищет ответы на вопросы, как человек преодолевает стресс и выгорание, от чего зависит его способность справляться с травматическими событиями, сохранять свою работоспособность и потенциал самореализации. Несмотря на интенсивные исследования в данной области, эти вопросы требуют дальнейшей углубленной разработки и обобщающих моделей. Одной из попыток такого обобщения является ресурсная модель защитного поведения человека, которая обсуждается во всех разделах предлагаемой монографии.
Раздел I «Стресс, посттравматический стресс и совладающее поведение» включает две главы.
В главе 1 «Стресс, посттравматический стресс и совладающее поведение» анализируются теоретические и эмпирические подходы последних лет к исследованию стресса, в частности, ресурсная теория стресса и само понятие «ресурс» применительно к стрессу и его преодолению. Рассматриваются вопросы расхода ресурсов, его индивидуальной и ситуационной специфики, поставлена задача измерения, оценки и оптимизации человеческих ресурсов в экстремальных условиях. Также анализируются вопросы регуляции стресса, его реакций, проявлений и последствий. Отмечен переход от парадигмы каузального редукционизма к трансакционистской позиции в изучении стресса, что выражено в принципе взаимосвязи всех уровней взаимодействия человека и условий жизнедеятельности, а также в принципе развития, когда оно является целью и/ или результатом любого взаимодействия. Это позволяет более глубоко понять вариативность стратегий преодоления стресса, оценить их уместность, эффективность и результативность, а также долгосрочные последствия применения определенных стратегий, проанализировать положительные последствия стресса, разделить понятие преодоления стресса и близкие к нему конструкты. Намечены перспективы дальнейшего изучения стресса.
Отдельные области исследования стресса освещены в книге более подробно. Это специфика профессионального стресса (причины возникновения – через сочетание ситуационных и психологических переменных, преодоление и связанные с ним стратегии поведения, профилактика и коррекция проявлений) и особенности посттравматического стресса.
Обосновано выделение посттравматического стресса в самостоятельную категорию на основе теоретических и эмпирических предпосылок. В качестве ведущей характеристики посттравматического стресса выделяется нарушение целостности личности в результате психотравмирующего воздействия стрессоров высокой интенсивности. Описаны критерии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и методы его диагностики, эпидемиология, факторы риска для развития ПТСР, последствия травматизации, направления, правила и приемы психотерапевтической работы с людьми, имеющими ПТСР. Поскольку ПТСР приводит к дезинтеграции личности, основная задача психотерапии состоит в достижении интеграции образов Я и мира, что дает возможность позитивной переработки травматического опыта.
Далее в главе приводятся эмпирические исследования ПТСР у ветеранов боевых действий с целью выделения предикторов его возникновения и коррелятов преодоления его последствий. Обнаружена связь личностных характеристик (нейротизма, экстраверсии, склонности к согласию) и общего интеллекта с выраженностью посттравматического стресса. Выявлена сложная ресурсная структура совладания у лиц с высокой негативной эмоциональностью. Обнаружено сочетание личностных свойств, ценностно-смысловых ориентаций, интеллекта и личного опыта, являющееся предиктором высокой выраженности посттравматического стресса. При исследовании факторов преодоления военного стресса была показана положительная связь высокого уровня общей социально-психологической адаптированности ветеранов и показателей субъективной удовлетворенности своим состоянием с высоким уровнем самооценки и смысложизненных ориентаций, тенденцией приписывать себе ответственность за события своей жизни, активной жизненной позицией в посттравматический период, способностью к изменению представлений о себе.
Помимо изучения стресса, вызванного участием в боевых действиях, эмпирически выявлено своеобразие адаптации у людей, переживших травматическую ситуацию, не связанную с военным опытом (женщины, перенесшие аборт). Было показано своеобразие контроля поведения, психологической защиты и совладания, а также их соотношения в единой системе адаптации в этой группе. Это соотношение выражено в различном уровне компонентов контроля поведения, использовании как бессознательных, так и сознательных механизмов адаптации, отличающихся различной ориентированностью и степенью продуктивности. Отмечается разная степень интеграции этих механизмов и компенсаторных возможностей адаптационной системы, выражающихся в успешности совладания со стрессом у нетравмированных женщин по сравнению с травмированными.
В главе 2 «Совладающее поведение» дается обобщающая картина исследований совладающего поведения на современном этапе и намечаются проблемные моменты и пути их решения.
В современных исследованиях совладающего поведения выделяются шесть наиболее интенсивно разрабатываемых направлений: 1) изучение факторов совладающего поведения и их взаимодействия; 2) разработка типологии стресса и совладания (виды стрессовых ситуаций и копинг-стратегий: например, копинг избегания и его разновидности); 3) построение моделей ресурсов совладающего поведения (социальных, когнитивных); 4) исследование развития совладающего поведения в онтогенезе (в том числе, передача и «наследование» паттернов копинга, включение наследуемых семейных паттернов совладания в актуальные стратегии копинг-поведения семьи); 5) совладание индивидуального и коллективного субъекта (например, диадический копинг в семье в сравнении со стратегиями каждого члена семьи); 6) изучение особенностей стресса и совладания в кросс-культурных исследованиях.
Были выделены следующие обобщенные факторы совладающего поведения: диспозиционный, динамический, социокультурный и регулятивный. Диспозиционные факторы как устойчивые личностные образования могут выступать предикторами определенного стиля совладающего поведения. Динамический фактор предполагает исследование динамики совладающего поведения в процессе изменения стрессогенных ситуаций (например, в ситуации беременности, развода, потери работы, сдачи экзамена и т. п.). Социокультурные факторы задают, с одной стороны, контекст и границы социальной интерпретации и восприятия стресса, самих трудных жизненных ситуаций, а с другой – возможности социальной поддержки и социально приемлемые способы совладания. Регулятивный фактор раскрывается через фасилитацию развития совладания и обучения ему как приобретение адаптивных копинг-стратегий или жизненных навыков с целью повышения психосоциальной компетентности субъекта. Копинг-навыки можно приобрести и/или восстановить, направленно формировать в многообразных структурированных (специально созданных) или неструктурированных условиях. В целом, развитие навыков саморегуляции является одной из важнейших целей воспитания и социализации.
При создании типологии стресса и совладающих с ним стратегий, прежде всего, рассматриваются виды ситуаций и новые интерпретации содержания копинга, возникшие в последнее время. Описана специфика совладающего поведения в следующих контекстах: экзамена в вузе (экзаменационный стресс); измены и связанной с ней ревности к романтическому партнеру; пролонгированной ситуации нежелательной беременности; стресса, связанного со старением; длительного домашнего насилия; рождения в семье второго ребенка; потери/смерти близкого человека; переживания стресса на рабочем месте; длительного совмещения работающей женщиной нескольких социально значимых ролей; переживания страхов.
Таким образом, поле исследования стрессовых ситуаций и способов совладания с ними существенно расширилось. Так, исследование ситуации длительного внутрисемейного насилия показало, что пребывание в таких условиях «купирует» развитие у женщин системы зрелого поливариативного копинга. В системе помогающего поведения преобладают механизмы психологической защиты и пассивные, ориентированные на избегание копинг-стратегии. Это способствует усилению психической травматизации жертвы, лишая ее чувства субъективного контроля над жизненной ситуацией. Мужеубийство как акт ликвидации хронического стрессора следует рассматривать в качестве способа совладания со стрессом, но в данном случае он является не разновидностью проблемно-ориентированного копинга, а примером крайне деструктивного эмоционально-ориентированного стиля совладания. Финансовые страхи вызывают различные переживания у мужчин и женщин: у первых они предстают как угроза жизни, а у вторых – как чувство потери субъективного контроля над ситуацией, что приводит к различным типам совладающего поведения.
Сложная и неопределенная детерминация копинга, ориентированного на избегание, – это одно из новых и перспективных направлений исследования. Проведено изучение новых видов копинга, относящихся к непрямым типам – таких, как шопинг и прокрастинация (откладывание выполнения дел, задания «на потом»). В зависимости от уровня субъектной регуляции и копинг-задач, такие виды копинг-поведения могут относиться к разным стилям: прокрастинация – к эмоционально-ориентированному копингу и копингу, ориентированному на избегание, что также связано с задачами деятельности, возрастом и социальной принадлежностью испытуемых; шопинг – к социально-ориентированному копингу и копингу с ориентацией на избегание. Наличие адаптационного и дезадаптационного потенциала данных стратегий задает определенный алгоритм дальнейшего анализа эффективности различных копинг-стратегий в зависимости от уровня субъектной регуляции, требований ситуации и задач копинга.
Одной их современных тенденций в изучении стресса и совладающего с ним поведения становится создание ресурсной модели, лежащей в основе защитного поведения (Дружинин, 1999; Холодная, 2002; Бодров, 2006; Сергиенко, 2009; Сергиенко и др., 2010; Хазова, 2010; Lasarus, Folkman, 1984; Hobfoll, 1998; Baumeister, Schmeichel, Vohs, 2007). Поиск общей системы защитного поведения, включающего совладание, ведется в разных направлениях, но необходимость разработки обобщающих моделей и выяснения природы и динамики данных механизмов – это самый современный этап изучения психологии саморегуляции человека.
Важнейшим аспектом изучения совладающего поведения является исследование копинг-поведения не только индивида, но и коллективного субъекта. Становится очевидным, что индивидуальное и групповое совладание с трудными жизненными ситуациями обладают своей спецификой, своеобразием динамики, разными типами копинг-стратегий и восприятием социально-культурного контекста. Наиболее широко совладание коллективного субъекта исследуется на примере семьи. Значительную роль в адаптации к различным стрессовым событиям в семье играет трансгенерация паттернов совладающего поведения. Трансгенерация, являясь разновидностью межпоколенной связи, указывает на ее направленность и предполагает передачу и принятие опыта потомками от предков. Совладанию со стрессом в семье посвящен раздел II.
Одна из современных тенденций в развитии изучения совладающего поведения – исследование культурно-специфических особенностей защитного поведения. Культура – это совокупность создаваемых людьми объективных и субъективных элементов, способствующих общению ее носителей через общий язык, нормы, ценности, убеждения, которые предписывают определенное поведение ее носителям (Триандис, 2007). В этой связи начавшиеся сравнительные исследования совладающего поведения в разных культурах позволяют оценить роль социальных факторов в развитии адаптивного поведения. Так, при сравнении российских и немецких студентов показано, что молодые немцы чаще обращаются к общественным (групповым) формам совладания, тогда как у русских студентов чаще выражено избегание и больше несовладание с ситуацией.
Один из существенных упреков к исследователям совладающего поведения состоит в том, что большинство работ они выполняют с помощью опросников, что снижает валидность полученных результатов. В настоящей главе представлен анализ опыта совладания с трудными ситуациями в условиях чеченского плена на основе данных, собранных и проанализированных польским ученым М. Колембой. В данной работе аргументируется представление о продуктивности и эффективности стратегий, которые ранее относились к непродуктивным и неэффективным. Пригодность и эффективность стратегий избегания и отвлечения подтверждены именно в ситуации плена, где сильно ограничено применение активных, наступательных форм борьбы со стрессом (здесь нет возможности прямого воздействия на стрессор). В совладании со стрессом помогает также юмор, выполняющий важную роль в снижении эмоционального напряжения, высокая степень которого, согласно концепции М. Яниса, является квинтэссенцией стресса (Terelak, 1995). Запреты, как и механизмы избегания, помогают сохранить эмоциональное равновесие через недопущение мыслей об угрозе в фокус сознания. Все возможные формы активности, включая навязывание себе определенных обязанностей, придумывание занятий и т. д., помогают бороться со стрессом в ситуации плена: внимание отвлекается от трудностей, и такие занятия субъективно ускоряют течение времени. Физические занятия существенно помогают поддерживать в лучшем состоянии свое тело, в результате чего оздоравливается и психика.
Раздел II «Совладание со стрессом в семье» представлен главой 3 «Семейное совладание и несовладание». Она открывается теоретическим обзором исследований семьи как системы, целостность которой обеспечивается различными составляющими на разных этапах развития семьи, межпоколенными связями и «наследованием» (трансгенерацией). Отмечается особая направленность исследований на изучение межпоколенного наследования (трансгенерации) как деструктивного, патологизирующего феномена. Дифференцированы, определены и соотнесены ключевые конструкты, описаны психологические механизмы функционирования межпоколенных связей и наследования в семье, что позволяет найти ответ на вопрос о том, как происходит передача и принятие опыта от одного поколения к другому. Представлены теоретические основы и эмпирические возможности исследования трансгенерации паттернов совладающего поведения в семье. Способность справляться со стрессом (трудными жизненными ситуациями) имеет не только индивидуальный контекст, но и является включенной в социальное окружение человека, в частности, в ближайшие для человека отношения – семейные. В связи с этим возрастает интерес психологов к механизмам защиты групп (семьи как малой группы), которые способствуют поддержанию стабильного равновесия, достижению развития и сохранения целостности в условиях действия как внешних, так и внутренних угроз.
Несмотря на то, что в исследованиях современных отечественных и зарубежных психологов изучение некоторых аспектов защитных механизмов в семейном контексте имеет определенную традицию, все они характеризуются теоретической и эмпирической фрагментарностью и касаются преимущественно индивидуального уровня совладающего поведения. Вводится понятие целостности семьи – качественная характеристика, включающая четыре основных компонента: трансгенерационный, структурный, динамический и пространственный. Трансгенерационный компонент целостности семьи отражает процессы, происходящие на протяжении ряда поколений, и отношения между ними, т. е. исторические (генетические) особенности системы. Структурный компонент включает внутренние, структурные характеристики семьи как группы. Динамический компонент целостности семьи – ряд факторов, обеспечивающих ее функционирование и тем самым жизнедеятельность; это такие характеристики совместной жизнедеятельности, как цели, задачи, функции, показатели функционирования и развития уровней системы семьи. Пространственный компонент – это границы и топологические отношения членов семьи (близость/отдаленность), позволяющие четко и ясно функционировать уровням системы семьи, например, выстраивать отношения между семьей и социальным окружением либо между различными подсистемами внутри семьи – индивидуальностями, диадами и т. д.
Все компоненты тесно связаны отношениями иерархии, что вызвано необходимостью подчеркнуть качественную неоднородность семейной целостности. Выделяются три основные задачи семейного совладания, имеющие первостепенное значение и направленные на индивида (партнера или члена семьи), семейную подсистему и семью как целое. Во-первых, совладание семьи снижает стресс каждого партнера. Семейный копинг должен помочь обоим партнерам справиться со стрессом. Во-вторых, происходит улучшение качества взаимоотношений в подсистемах. Семейный копинг оказывает значительное влияние на взаимоотношения: он культивирует чувство «мы», «нас», т. е. порождает представления, что взаимоотношения – источник поддержки в сложных обстоятельствах. В-третьих, семейное совладание способствует сохранению целостности семьи, не позволяет ей разрушаться под воздействием кризисной ситуации. В результате семья преодолевает трудности и продолжает свое функционирование. В соответствии с теоретически разработанной концепцией семейного совладающего поведения и сохранения целостности семьи представлены эмпирические исследования семейного совладания как группового защитного механизма, причем на разных этапах жизненного цикла, в нормально функционирующих и дисфункциональных семьи, в совладающих и несовладающих с жизненными трудностями семьях и в семьях с проблемным членом.
Исследования показали, что семья выступает самостоятельным, активным субъектом, который осуществляет осознанный выбор способов регуляции как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Основным критерием совладающей группы с учетом совладающего поведения группового субъекта является динамический порядок выбора копинг-поведения. Совладающее поведение семейной группы имеет определенную иерархию: от индивидуального стиля совладания к совместным копинговым усилиям партнеров (либо членов семьи), направленных на преодоление стрессовой ситуации. К критериям совладания относятся: взаимодействие – объединение индивидуальных усилий каждого члена семьи и совместных усилий членов семьи (супругов); значимость копинг-усилий каждого партнера для благополучия другого партнера и их отношений; связанность (неразрывность связи) с социальным контекстом семейной системы (функциональностью системы, актуальным уровнем адаптации, удовлетворенностью браком и др.).
В данном разделе представлены теоретический анализ и эмпирические результаты исследований фигуры и образа отца как ресурса совладания. Роль отца в развитии ребенка и становлении его адаптивного поведения начала изучаться буквально в последние годы. В контексте проблем совладания подростка с трудностями, на наш взгляд, можно рассматривать реальную поддержку отца в трудной ситуации и опыт взаимодействия с отцом как ресурсы совладания; образ отца как особый личностный ресурс. Сравнительные исследования подростков, растущих с биологическим отцом, отчимом или без отца, показали значимость детско-родительского взаимодействия и образа отца для личностного потенциала подростка. Отец и как реальный человек, взаимодействующий с подростком, и как значимый Другой, представленный в субъективном восприятии дочери или сына, является ресурсной, но при этом достаточно противоречивой фигурой совладания с трудными ситуациями.
Исследования страха беременности и родов в группах женщин самых разных возрастов, социального положения, замужних и незамужних, имеющих и не имеющих детей, подтвердили представления о роли опыта и социальной поддержки (социально-ориентированный копинг) в преодолении страха беременности и родов.
Стресс в ситуации ревности и измены, его проявления у мужчин и женщин, а также способы совладания с ним исследовался с использованием как стандартизированных методов, так и полуструктурированного интервью. Показано, что при различиях течения и выраженности стресса ревности и измены у мужчин и женщин ведущими способами совладания с ним становятся эмоционально-ориентированные стратегии и стратегии избегания.
Пример несовладания со стрессом в дисфункциональной семье, приводящего к мужеубийству, показывает, что, несмотря на различия в типах личности женщин, совершивших преступление (тревожный и зависимый тип и агрессивный тип), существует единый комплекс факторов, ведущий к подобным преступлениям: агрессивность супружеского поведения, создающего условия для накопления негативных эмоций и агрессивного взрыва у од них (зависимых) и поддержания агрессии с бесконечным ее «тиражированием» и переводом в плоскость неизбежного взаимодействия у других (возбудимых) женщин; дезадаптивность, непродуктивность имеющихся у женщин паттернов совладающего поведения, преобладание у них незрелых защитных механизмов. Все это в целом приводит к истощению внутренних ресурсов совладания с продолжительной стрессовой ситуацией в семье и ведет к совершению преступления.
Раздел III «Онтогенез совладающего поведения» включает главу 4 «Развитие защитных механизмов поведения», посвященную исследованиям переживания стресса и совладания с ним в онтогенезе. Рассматривается соотношение контроля поведения, совладающих стратегий и психологических защит в подростковом возрасте. Показано, что они являются тесно связанными видами адаптивного поведения и динамика копинг-стилей соотносится с динамикой когнитивного контроля. Уровень контроля поведения закономерно связан с выбором стратегий определенной направленности (высокий уровень – с проблемно-ориентированными стратегиями, низкий – со стратегиями эмоциональной разрядки). Обнаружена половая специфика в стилях совладания, степени связей копинг-стратегий и контроля поведения, вариативности стиля совладания. Процесс становления стилей совладания происходит за счет изменения количества и качества связей между копинг-стратегиями и показателями контроля поведения. Общий «скачок» в динамике стиля совладания приходится на период окончания школы и выбора дальнейшего профессионального пути. Эти данные подтверждают существование континуума механизмов индивидуального приспособления, принадлежащих разным уровням организации психики, развивающихся и реализующихся гетерогенно и гетерархически. Применение системно-субъектного подхода позволяет глубже проанализировать регулятивную функцию субъекта в процессе совладания.
В экспериментальном исследовании ранних этапов психического развития показано, что особенности переживания ситуативного стресса у детей связаны как с родительским поведением, так и с биологическими и психологическими характеристиками детей (зиготность, темперамент). У одиночно рожденных детей с переживанием стресса в большей мере связано строгое, ограничивающее, организующее поведение родителей (прежде всего, матери); у монозиготных близнецов – любящее, поддерживающее, поощряющее поведение матери; у дизиготных – также любящее и поощряющее поведение, но со стороны не только матери, но и отца. Показана возрастная динамика структуры родительской поддержки (соотношения поощряющего и организующего компонентов), а также возрастная динамика связи между поведением родителей и стрессовыми ситуативными переживаниями детей, заключающаяся в приобретении детьми большей самостоятельности в регуляции своего состояния и поведения.
Рассматривается также структура использования ресурсов совладающего поведения людьми разного возраста. Выделяется несколько групп ресурсов: индивидуальные (физиологические и личностные), средовые (ресурсы физической и социальной среды) и деятельностные (связанные с реализацией человека в профессиональной сфере, в области хобби, других вариантах времяпрепровождения). Обнаружено, что в юношеском возрасте большинство испытуемых опирается на средовые и деятельностные ресурсы, а в ранней и средней взрослости – на средовые, причем преимущественно социальные, как и в юношеском возрасте. В то же время в период средней взрослости люди наиболее часто опираются на индивидуальные ресурсы. Во всех возрастах первое место среди ресурсов принадлежит семье и семейным отношениям, однако с возрастом круг лиц, способных оказать поддержку, уменьшается. Наблюдается также значимое снижение использования деятельностного ресурса от периода юности к зрелому возрасту.
Раздел IV. «Профессиональный стресс, выгорание, совладание и профилактика» включает две главы.
В разделе объединены работы, анализирующие различные аспекты профессионального стресса. Важным фактором деятельности профессионала в современном обществе является глобализация, причем не только в информационно-технической, но и в психологической сфере. Процессы психологической глобализации отстают от глобализации технической, в результате профессионал оказывается в ситуации «глобализационного шока». Описаны феномены «сопротивления изменениям» и «творческого разрушения», относящиеся к различным вариантам адаптации. Предложена универсальная адаптационная модель, основанная на социальной открытости среды и ресурсах толерантности индивида. Рассмотрены различные типы переидентификации профессионала в зависимости от степени изменения среды и собственной активности человека. Умеренные изменения социальной среды, как позитивные, так и негативные, вызывают конструктивную профессионально-преобразовательную активность субъекта, а чрезмерные, в том числе и позитивные, приводят к стагнации или деструктивной реакции профессионала.
В эмпирических исследованиях стресс и преодоление посттравматических стрессовых состояний анализируются с позиций постнеклассического эволюционно-генетического и субъектного подхода. Приведены результаты лонгитюдного изучения особенностей психологической регуляции посттравматических стрессовых состояний у ветеранов боевых действий. Показана ведущая роль структур сознания и самосознания личности в иерархии детерминант, участвующих в регуляции посттравматических стрессовых состояний, а также единство всех уровней регуляции активности субъекта в рамках единой адаптационной системы. При исследовании стресса и выгорания у лиц опасных профессий (спасателей) была выявлена детерминирующая роль ценностных структур образа Я в возникновении таких нарушений. Преобладающие ценности схожи как внутри группы лиц, подверженных выгоранию и с выраженной стрессовой симптоматикой, так и внутри группы лиц с отсутствием подобных нарушений. В группе успешно адаптирующихся испытуемых представления об идеальных и реализуемых ценностях более согласованы по сравнению с группой дезадаптантов.
Глава 6 «Психологическое выгорание и совладание с ним» посвящена теоретико-экспериментальному анализу феномена психологического выгорания, который начал изучаться в отечественной психологии сравнительно недавно – с 90-х годов ХХ в., в зарубежной науке он также имеет непродолжительную историю исследований (с 1970-х годов). Открывает раздел теоретико-аналитическая работа, в которой раскрывается история возникновения новой для психологии категории психологического выгорания, вскрываются социально-психологические условия возникновения данной проблемы, выделяются основные направления изучения психологического выгорания и современные проблемные вопросы, требующие решений.
Одной из важных проблем является создание теоретических системных моделей психологического выгорания, учитывающих как внешние (условия труда, стрессовые факторы и пр.), так и внутренние (индивидуально-психологические характеристики людей, способность сопротивления стрессогенным ситуациям и т. п.) условия. Другая проблема, требующая своего решения, – «обратимость-необратимость» выгорания. Решение данной проблемы чрезвычайно важно, поскольку оно позволяет не только ответить на вопросы о последовательности использования различных коррекционных мероприятий и об оценке их эффективности, но и установить оптимальную связь этапов протекания выгорания с коррекционными и профилактическими мероприятиями. Проблема критериев выгорания касается степени эффективности применяемых стратегий профилактики и коррекции выгорания. Решение этой проблемы будет во многом зависеть от выбора тех ключевых критериев, которые будут положены в основу такой разработки. Наконец, одной из важнейших задач современного этапа изучения выгорания становится совершенствование методов его диагностики. Указанная проблема, хотя прямо и не относится к методам коррекции и профилактики выгорания, однако требует пристального внимания со стороны исследователей и практиков.
Эмпирическое исследование выгорания представителей социономических профессий – врачей – показало, что низкая выраженность гуманистического компонента эмоциональной направленности интерпретируется как базовая детерминанта (основание), а гармонизирующего компонента – как способствующий фактор (предпосылка) выгорания врачей. На примере изучения выраженности психологического выгорания преподавателей показано регулирующее влияние самоактуализации на динамику выгорания педагогов в течение учебного года. В другом исследовании выгорания учителей и их способности совладания с ним продемонстрировано, что проблемно-ориентированный копинг и избегание как стратегии совладания в большей степени позволяют купировать психологическое выгорание по сравнению с эмоционально-ориентированным копингом. Учителя с авторитарными установками в большей степени подвержены выгоранию в отличие от учителей с демократическими установками. К социономическим профессиям относятся и сервисные (обслуживающие), которые оставались менее изученными. Исследование официантов показало, что позитивное отношение к работе и увлеченность ею отрицательно связаны с эффектами выгорания. Таким образом, современные эмпирические исследования расширяют представления о внутренних факторах психологического выгорания, что способствует продвижению в решении проблемных вопросов данного научного направления.
Коллективный труд, целью которого является интеграция ранее разрозненных направлений исследования стресса, копинга и выгорания, дает панорамную картину современных разработок актуальных психологических проблем способностей человека противостоять вызовам природной и социальной среды. Фундаментальные теоретико-экспериментальные разработки, представленные в данной монографии, с одной стороны, способствуют развитию научных представлений о психологических ресурсах человека и его адаптивных возможностей, а с другой – становятся основой для психологической практики, направленной на профилактику и предотвращение последствий стресса и психологического выгорания.
Книга написана авторским коллективом в следующем составе (в скобках указаны соответствующие параграфы):
Ю. В. Бессонова (5.3), В. А. Бодров (1.1), И. И. Ветрова (4.1), Г. А. Виленская (4.2), С. А. Гончарова (3.4), Ю. С. Гурьянова (6.5), Л. Г. Дикая (6.3), Е.А. Дорьева (Петрова) (4.3.), О. Н. Доценко (6.2), О. А. Екимчик (3.5), Е. П. Ермолаева (5.1), М. Е. Зеленова (1.4), М. Колемба (2.3), Т. Л. Крюкова (2.1, 6.5), Е. В. Куфтяк (3.1), Е. О. Лазебная (5.2, 5.3), Л. И. Лочехина (1.3), Т. С. Микова (1.5), С. А. Наличаева (6.3), А. А. Обознов (6.4),|В. Е. Орел|(6.1), М. А. Падун (1.3), О. Б. Подобина (3.3), О. В. Полунина (6.4), М. В. Сапоровская (3.2), Е. А. Сергиенко (1.5, 4.1), Н. В. Тарабрина (1.2), С. А. Хазова (2.2), Е. В. Ювенская (3.6), И. В. Ювенский (3.6).
Авторы надеются, что их усилия, воплощенные в коллективной монографии, будут способствовать развитию исследований актуальных проблем психологии человека в современном сложном мире.
А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко
Литература
Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление. М.: Пер Сэ, 2006.
Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008.
Дружинин В. Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 1999.
Крюкова Т. Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010.
Орел В. Е. Синдром психического выгорания личности. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005.
Сергиенко Е. А. Контроль поведения: индивидуальные ресурсы субъектной регуляции [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2009. № 5 (7). http://psystudy (http://psystudy.ru/).ru (http://psystudy.ru/).
Сергиенко Е. А., Виленская Г. А., Ковалева Ю. В. Контроль поведения как субъектная регуляция. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010.
Тарабрина Н. В. Психология посттравматического стресса: теория и практика / Отв. ред. А. Л. Журавлев. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009.
Триандис Г. К. Культура и социальное поведение. М.: Форум, 2007.
Хазова С. А. Когнитивные ресурсы совладающего поведения: эмпирические исследования. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010.
Baumeister R. F., Schmeichel B. J., Vohs K. D. Self-Regulation and executive function: The Self as controlling agent // A. W. Kruglanski, E. T. Higgins. Social psychology: Handboock of basic principles. N. Y.: Guilford Press, 2007. P. 516–539.
Hobfoll S. E. Stress, culture, and community: The psychology and philosophy of stress. New York: Plenum, 1998.
Lazarus R. S., Folkman S. Stress, Appraisal and Coping. N. Y.: Springer Publishing House, 1984.
Terelak J. F. Stres psychologiczny. Bydgoszcz: Branta, 1995
Раздел I
Стресс, посттравматический стресс и совладающее поведение
Глава 1
Стресс и посттравматический стресс
1.1. Состояние и перспективы исследований психологического стресса
Интерес к проблеме психологического стресса в последние десятилетия увеличивается в связи с ростом драматических событий и явлений в нашей жизни из-за нарастающих воздействий экстремальных факторов экологического, техногенного, социального, политического и другого характера, вызывающих изменения в психическом статусе, развитие неблагоприятных психических состояний и заболеваний психогенной природы. Эти воздействия и психические реакции на них влияют на состояние личностной сферы и межличностные отношения, отражаются на работоспособности, профессиональной эффективности и безопасности труда, состоянии здоровья и профессиональном долголетии.
Проблема психологического стресса населения, в том числе специалистов различных областей профессиональной деятельности, приобретает все возрастающую научную и практическую актуальность. Технический прогресс в промышленности, на транспорте, в энергетике и военном деле сопровождается повышением роли человека в достижении высокой эффективности и качества деятельности, безопасности труда. Комплексная автоматизация работы систем управления, широкое применение вычислительной техники, использование информационных моделей индивидуального и коллективного пользования, интенсификация труда коренным образом меняет его характер – упрощаются жестко алгоритмизированные функции специалиста, но возрастает количество возможных проблемных ситуаций и темп работы. Повышается профессиональная и индивидуальная значимость и ответственность за результаты и последствия деятельности.
Труд человека связан с периодическим, иногда довольно длительным и интенсивным воздействием (или ожиданием воздействия) экстремальных значений профессиональных, экологических и других факторов, которое сопровождается негативными эмоциями, перенапряжением физических и психических функций, деструкцией деятельности. Наиболее характерным психическим состоянием, развивающимся под влиянием указанных факторов, является психологический стресс профессиональной природы. Информационно-когнитивные основания специфики современных видов профессиональной деятельности – операторской, творческой, управленческой т. п. – определяют необходимость рассматривать некоторые особенности проявления стресса в профессиональной деятельности.
Стресс является реакцией организма и психики не столько на физические свойства, факторы ситуации, сколько на особенности взаимодействия между личностью и окружающим миром (Lazarus, Launier, 1978; Бодров, 1995, 2000). Это в наибольшей степени продукт наших когнитивных процессов, образа мыслей и оценки ситуации, знания собственных возможностей (ресурсов), степени обученности способам управления и стратегиям поведения, их адекватному выбору. И в этом заложено понимание того, почему условия возникновения и характер проявления стресса (дистресса) у одного человека не являются обязательно теми же для другого, а причины и признаки стресса у одного того же человека различаются в разных стрессогенных ситуациях.
Психологический стресс как особое психическое состояние является своеобразной формой отражения субъектом сложной экстремальной ситуации, в которой он находится. Специфика психического отражения обусловливается, в частности, процессами деятельности, особенности которых (их субъективная значимость, интенсивность, длительность протекания и т. д.) в значительной степени определяется выбранными или принятыми целями, достижение которых побуждается содержанием мотивов деятельности.
Нами психологический стресс рассматривается как «функциональное, психическое состояние организма и психики, которое характеризуется существенными нарушениями субъективного состояния, биохимического, физиологического, психического статуса и поведения человека в результате воздействия экстремальных факторов психогенной природы (угроза, опасность, сложность, вредность условий жизни и деятельности)» (Бодров, 2006а, с. 21).
Несмотря на важное научное и практическое значение психологического стресса, в нашей стране за последние четыре десятилетия опубликовано относительно небольшое количество фундаментальных и аналитических работ по этой проблеме. К ним следует отнести исследования Л. И. Анцыферовой, В. А. Бодрова, Л. Г. Дикой, Л. А. Китаева-Смыка, Т. Л. Крюковой, А. Б. Леоновой, В. И. Медведева, Н. И. Наенко, Н. Н. Суворовой и др. Существенно больше исследований по проблеме психологического стресса проведено и опубликовано за рубежом (C. M. Aldwin, T. A. Beehr и J. S. Newman, S. Folkman и R. S. Lazarus, P. L. Rice, H. Selye, M. J. Smith и мн. др.).
Исследования закономерностей развития и преодоления психологического стресса имеют относительно короткую историю. Однако за этот относительно короткий период были созданы и обоснованы различные теории и модели биологического, физиологического, психологического, социального стресса. Основу исследований в этой области заложили работы B. Кеннона о гомеостазе и Г. Селье о стрессе как общем адаптационном синдроме.
Некоторые теоретические положения проблемы развития и преодоления психологического стресса
Сравнительный анализ теорий и моделей стресса свидетельствует об определенной этапности развития учения о стрессе, преемственности научных позиций и в то же время о различиях во взглядах на доминирующие причины, механизмы регуляции и особенности проявления стресса (Бодров, 1995).
Исследования проблемы психологического стресса в значительной степени основываются на положениях когнитивной теории (Folkman et al., 1979; Lazarus, 1966, 1991; Rosenham, Seligman, 1989; и др.). Основное содержание этой теории сводится к положению о том, что когнитивные процессы определяют качество и интенсивность эмоциональных реакций за счет включения механизмов оценки значимости реального и антиципирующего взаимодействия человека со средой, а также личностной обусловленности этой оценки. Следует признать, что современные представления о сущности психологического стресса, основанные на положениях когнитивной теории стресса, носят наиболее глубокий и универсальный характер. Такое положение обусловливается, во-первых, серьезным научным вниманием ведущих специалистов (физиологов, психологов и др.) к данной проблеме, обширным количеством теоретико-экспериментальных исследований и реализацией в них идей и взглядов на закономерности психического отражения явлений действительности, на механизмы регуляции различных форм активности человека, личностную детерминацию психических состояний и поведения, когнитивные закономерности формирования знаний, психических образов, оценочных суждений и т. д. Во-вторых, теория психологического стресса, несмотря на необходимость ее дальнейшего развития, уже сейчас отражает и объясняет многие особенности возникновения этого состояния в экстремальных условиях жизни и деятельности, значение индивидуальных особенностей личности в этом процессе, взаимосвязь стресса и различных нарушений здоровья и работоспособности человека и мн. др. вопросы. В работах по данному направлению сохраняются проблемы характера когнитивного отражения стрессогенных ситуаций разной сложности и содержания, а также особенностей личностной детерминации процесса развития стресса различной, в том числе профессиональной, природы.
Изучение механизмов развития психологического стресса позволяет рассматривать процессы когнитивной регуляции этого состояния как системную категорию. Системообразующий фактор такого процесса – соотношение субъективных оценок степени экстремальности ситуации, которые отражаются в чувстве тревоги, напряженности, страха и т. п., а также способности их преодоления, купирования. Оценка является когнитивным медиатором реакции на стресс, опосредуя требования среды и иерархию целей индивида. Формирование представлений о реальной или потенциальной угрозе, ущербе, потере, сложности ситуации вызывает когнитивные процессы, которые обеспечивают интеграцию и интерпретацию информации о субъективно значимых событиях. Эти преобразования информации на основе функционального взаимодействия различных психических процессов сопровождаются избирательным отношением к ней, приданием информации определенных значений, построением на ее основе психических образов ситуаций, восполнением информационных «пробелов» в памяти, снижением ее неопределенности и т. д. (Бодров, 2006а).
Характер оценочных суждений о требованиях ситуационных воздействий и ресурсах личности, необходимых для удовлетворения этих требований, обусловливается такими особенностями субъекта, как его эмоциональность, «личная схема» и степень ожидания неприятных событий, самооценка эффективности личного поведения и собственных реакций в экстремальной ситуации («эффективное» и «результирующее» поведение – Bandura, 1977). Предрасположенность субъекта к повышенной эмоциональной возбудимости и реактивности проявляется у лиц с преобладанием «пессимистического объяснительного стиля» и негативной направленности самооценки здоровья и самочувствия. Данный уровень регуляции психологического стресса обусловливается активационными процессами, которые формируют личностное отражение, проявление когнитивной системы развития этого психического состояния.
Представленные суждения о когнитивной системе регуляции развития психологического стресса следует рассматривать всего лишь как схему, которая требует развития. Можно предположить, что механизмы регуляции процессов преодоления стресса будут отличаться от описанных выше, в частности, в связи с возрастанием роли не только когнитивных, но и личностных ресурсов человека.
Одно из современных направлений развития теории психологического стресса связано с разработкой концепции роли ресурсов человека в зарождении, развитии и преодолении этого психического состояния. Ресурсный подход в целях изучения особенностей психической активности человека был разработан Дж. Д. Брауном и Е. К. Поултоном (Brown, Poulton, 1961) и в последующем развит М. Дж. Познером и С. Дж. Бойсем (Posner, Boies, 1971), Д. А. Норманном и Д. Дж. Бобровым (Norman, Bobrov, 1975), С. Е. Джексоном и Р. С. Шулером (Jacson, Schuler, 1995) и др. Данный подход наиболее интенсивно разрабатывается применительно к изучению процессов приема и преобразования информации, особенно при совмещенной деятельности человека. Постулируется, что система обработки информации в каждый момент времени располагает изменяющимися, но ограниченными ресурсами. Интерес к так называемым ресурсоподобным свойствам связан, во-первых, с ограниченностью средств обработки информации, которыми располагает человек в каждый данный момент времени, и, во-вторых, с возможностями гибкого распределения и с перераспределением человеком этих средств между разными этапами, стадиями, каналами, уровнями в ходе преобразования информации.
Следует различать объективно наблюдаемые и регистрируемые ресурсоподобные свойства процесса в преобразовании информации и ресурсы как гипотетическую переменную, вводимую для объяснения этих свойств. Для обозначения данной переменной использовались различные термины: внимание, мощность, усилие и, наконец, ресурсы. Вопрос о том, что скрывается за гипотетической переменной «ресурсы», каков ее онтологический статус, является центральным с теоретической точки зрения. Первый вариант ответа на этот вопрос имплицитно подразумевает, что за понятием «ресурсы» скрывается вполне определенное объективно регистрируемое материальное явление (например, активирующая функция ретикулярной формации, изменение кровотока, процессы метаболизма гликопротеина в мозгу и т. д.). Другой вариант ответа связан с пониманием ресурсов как именно теоретического конструкта, отражающем некоторое системное (т. е. идеальное) качество, присущее системе обработки информации или энергии и характеризующем ее свойство ограниченности и распределяемости средств обработки информации и метаболизма веществ в организме; выделение этого объективно существующего, хотя и идеального качества позволяет подойти к принципиальной возможности оценивать, например, количественную меру «вовлечения» различных средств обработки информации в решаемую задачу, т. е. определять информационную загрузку человека. Согласно третьему варианту, под ресурсами стали понимать ресурсы регуляции, т. е. некоторый функциональный потенциал, обеспечивающий устойчивый уровень выполнения выходных показателей в течение определенного времени.
Развивая идею множественности ресурсов, Д. Навон и Д. Гофер (Navon, Gopher, 1979) и В. А. Бодров (2000) сформулировали ряд постулатов концепции человеческих ресурсов:
а) «человеческая система» в любой момент обладает определенным количеством возможностей по преобразованию энергии и информации, которые называются ресурсами;
б) деятельность характеризуется количеством использованных ресурсов и адекватностью их применения;
в) трудовая задача в конкретный момент определяется для конкретного человека рядом параметров информации (качество и количество стимулов, кодирование, размещение и т. п.) и человека (профессиональные способности, сложность, значимость и т. п.), соотношение которых обусловливает ресурсообеспеченность деятельности;
г) функция деятельности характеризуется соотношением качества рабочей информации (как результата сопоставления условий выполнения задачи и возможностей субъекта) и величиной ресурсов.
Проблема психологического стресса с позиции ресурсного подхода нашла отражение в его ресурсной модели, согласно которой стресс возникает в результате реальной или воображаемой потери части ресурсов, которые включают поведенческую активность, психические, соматические, профессиональные возможности, личностные характеристики, вегетативные и обменные процессы (Freedy, Hobfoll, 1994). В ресурсной модели стресса привлекательной является принципиальная возможность оценить стресс через категорию потери, расхода ресурсов. Однако остается неясным, в какой степени различия в стрессогенных ситуациях отражаются на составе и количестве востребованных ресурсов, как на этом процессе сказывается исходное значение ресурсов, имеются ли все же эффекты перераспределения ресурсов и в чем они заключаются.
Следует отметить, что данная модель стресса получила концептуальное обоснование только применительно к экстремальным условиям социальных процессов. Представляет интерес, в какой степени другие виды экстремальности могут быть раскрыты через категорию человеческих ресурсов.
При анализе положений ресурсной теории стресса возникают вопросы о сущности процессов расхода ресурсов (как это происходит и в чем выражается), о специфичности ресурсов, об индивидуальных различиях в интенсивности расхода в однотипной ситуации, об изменении расхода ресурса в различных ситуациях и т. п. Ответы на подобные вопросы можно искать, в частности, в развитии и использовании представлений о «поверхностной» и «глубокой» адаптационной энергии (Селье, 1979). Предположение о существовании двух мобилизационных уровней адаптации поддерживается рядом исследователей (Китаев-Смык, 1983; Медведев, 1979). Эта адаптационная энергия представляет собой часть наличного ресурса индивида (энергетического, когнитивного, личностного, поведенческого), который оперативно мобилизуется на обеспечение требований стрессогенной ситуации. Данная часть ресурсов человека может рассматриваться как его скрытый и актуализированный в конкретной ситуации резерв, способный компенсировать эффекты неблагоприятного воздействия внешних факторов среды (ситуации) и субъективной сложности оценочных процессов (Бодров, 2000, 2006а).
Особенности ресурсного обеспечения любой деятельности, в том числе по преодолению стресса, связаны с повышением или снижением уровня активации функций организма и психики. Разные классы стрессогенных факторов отражаются в системах неспецифической (тонической) и специфической (фазической) активности (Шапкин, 1999). В нормальных условиях обе системы ресурсного обеспечения работают по принципу взаимной компенсации (снижение активности одной системы ведет к повышению другой); при нарушении режима труда, сна и т. п. страдают процессы неспецифической активации, а при воздействии неблагоприятных факторов содержания и условий деятельности ухудшаются процессы специфической активации.
О механизмах психической регуляции психологического стресса
В проблеме психологического стресса еще недостаточно изучен вопрос о механизмах регуляции его реакций, проявлений и последствий. Исходя из когнитивной теории, признаки стресса их характер и интенсивность определяются не столько силой экстремальных воздействий, сколько величиной ресурсов человека. Категория «ресурсы человека» в литературе излагается, как правило, в форме перечисления способностей, побуждений, опыта, знаний и т. п., которые обеспечивают преодоление стресса. Однако такой качественный подход явно недостаточен, так как он не раскрывает величины ресурсов, его трудно сопоставить с физическими, психофизиологическими, энергетическими характеристиками экстремальных воздействий. Возникает задача разработки аппарата измерения человеческих ресурсов, количественной оценки их системной оптимизации в экстремальных условиях.
В изучении механизмов регуляции психологического стресса следует отметить внимание к процессам информационно-энергетического взаимодействия физиологических и психологических систем деятельности и, в частности, к усилительной роли различных факторов в развитии метаболических и вегетативных процессов. Именно это положение сближает взгляды физиологов и психологов на природу психологического стресса и на роль психического отражения экстремальной ситуации и субъективной значимости событий, которые определяют интенсивность воздействующих факторов и запускают адекватные реакции физиологических систем жизнедеятельности.
Конкретный вклад в развитие представлений о механизмах регуляции психологического стресса внесли исследования закономерностей нервно-психического напряжения и положения концепции о его системной организации. Однако эта концепция нуждается в дальнейшем развитии с позиций изучения закономерностей личностной детерминации данного состояния, а также значения сенсорно-перцептивного канала запуска процесса формирования напряженности. Такую роль при психологическом стрессе может играть система представлений о травмирующих событиях (психические образы событий), «вторичные» (отставленные во времени) эмоции, процессуальные сложности решения ситуационных задач и т. д.