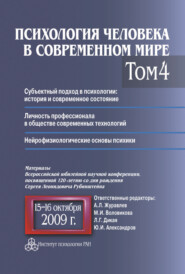скачать книгу бесплатно
Одним из главных камней преткновения в изучении потребностей является вопрос об их происхождении (биологическом или социальном) и путях их развития. Несмотря на различия в конкретных выводах, многие исследователи так или иначе сходятся в том, что низшие (в иерархии А. Маслоу) потребности в большей мере связаны с биологически обусловленными, наследственными динамическими тенденциями, а высшие складываются под влиянием социума, культуры и собственной активности человека. При этом как в теории А. Маслоу, так и в понимании процесса становления человека К. Роджерсом отчетливо прослеживается признание «органического» происхождения тех потребностей, реализация которых приводит к лучшей и более полноценной для человека жизни. Маслоу определяет это через концепцию инстинктоидности базовых потребностей, отмечая, что они по своей природе (в определенном смысле и в определенной степени) конституциональны, или наследственны» (Маслоу, 1999). Роджерс формулирует аналогичное положение как доверие к организму: «Еще одна характеристика человека, живущего в процессе хорошей жизни, – все увеличивающееся доверие к своему организму как средству достижения наилучшего поведения в каждой ситуации в настоящем» (Роджерс, 1994, с. 240).
В отечественных исследованиях, прежде всего в уже упоминавшихся работах Л. И. Божович, основной акцент делается на проблеме развития высших духовных потребностей: «Потребность в новых впечатлениях первоначально является чисто органической потребностью, но очень скоро (скорее, чем другие органические потребности) она начинает приобретать некоторые специфические особенности, характерные для духовных потребностей человека» (Божович, 1997, с. 160).
Приведем еще ряд положений, касающихся проблемы потребностей, которые в целом разделяются большинством отмеченных и содержательно близких к ним исследователей:
• неоднозначность, множественность связей между потребностями и удовлетворяющими их предметами (одна и та же потребность может быть удовлетворена разными способами, в то время как один и тот же предмет может быть связан с разными потребностями);
• возможность значительного искажения потребности при ее отражении в реальных побудительных силах – мотивах, желаниях, интересах, идеалах, происходящая под влиянием как социума, так и опыта жизнедеятельности человека;
• иерархические соотношения между различными потребностями;
• возможность развития и формирования потребностей под влиянием как благоприятных внешних условий, так и самостоятельной активности личности.
Попытаемся предложить вариант осмысления проблемы потребностей, опираясь как на проникнутые гуманизмом работы С. Л. Рубинштейна, так и на другие исследования, касающиеся проблем мотивационно-потребностной сферы человека.
1. К потребностям следует относить только те побуждающие человека факторы, которые:
• необходимы для осуществления «человеческого способа существования», который заключается в мере соотношения самоопределения и определения другими (условиями, обстоятельствами), а также в характере самоопределения в связи с наличием у человека сознания и действия (Рубинштейн, 2002);
• отражают объективное взаимодействие человека с миром, при этом объективность какого-либо комплекса содержаний должна определяться взаимоотношениями элементов того же комплекса (Рубинштейн, 1997).
2. В понимании потребности необходимо отойти от узкой ссылки на нужду, расширив его через обращение к ситуации взаимодействия человека с миром, порожденной противоречием между самоопределением человека и теми условиями мира, в которые он объективно включен, так как лишь в этом случае может быть раскрыта деятельная природа самоосуществления человека в мире. В этом случае общая трактовка потребности будет справедлива как для тех ситуаций, в которых возможно определение предмета, в той или иной форме присваиваемого человеком, так и для тех, когда, напротив, потребность удовлетворяется через реализацию себя в чем-то, изменение собственного состояния, утверждения значимой ценности, включая ценность другого человека и др.
3. При определении природы конкретной потребности представляется более целесообразным не деление на какие-либо виды, типы и т. п., а вычленение того отношения человека и мира, внутри которого и возникла данная потребность. При этом в качестве основополагающих, вероятно, можно выделить следующие основные системы отношений:
• биологическое существование, развитие организма человека;
• познание и практическое преобразование мира;
• включенность человека в систему социальных взаимодействий;
• самоопределение человека как целостного существа, которое включает в себя динамику обострения и снятия противоречий между остальными системами отношений и определяется логикой реализации человеком своей сущности.
4. В каждой из этих систем отношений могут быть определены как «исходные потребности», на которых основывается их дальнейшее развитие, так и «идеальные» направления такого развития, отражающие опыт гуманистического осмысления сущности человека.
Под достаточно условным термином «исходные потребности» мы понимаем те потребности, которые не могут быть поняты, объяснены, выведены из прижизненного опыта человека. Мы не склонны приписывать им только наследственное, то есть генетически предопределенное, происхождение. Возможно, наряду с этой действуют и иные порождающие их причины, связанные со спецификой самих систем, в которые включается человек, начиная с перинатального этапа своего развития. К ним относятся потребности, связанные с функционирование и развитием организма (наличие адекватных состоянию организма питательных веществ, температуры и др.), исходный познавательный интерес, потребность в другом человеке. Исходной для дальнейшего самоопределения, вероятно, является потребность в активности, в том числе направленной на «организацию» мира взрослых для удовлетворения других потребностей. Причем такую активность можно наблюдать не только сразу же после, но и до, а также в процессе рождения ребенка.
Опыт жизни, в том числе удовлетворения потребностей, в каждый момент приводит к отрицанию, снятию предыдущего состояния человека во всей системе его отношений с миром. В этом процессе становления, самоосуществления человека изменяются и его потребности. Мы полагаем, что существуют такие объективные направления в развитии потребностей, которые присущи человеку, сообразны с его природой, понимаемой не как биологическая основа, а как сущность человека во всей его целостности. С высокой долей условности опишем их через «идеалы» в развитии потребностей каждой из обозначенных систем отношения человеком с миром.
Идеалы развития организма человека очевидным образом связаны с понятием здоровья, с одной стороны, и биологического продолжения рода человеческого – с другой.
Идеалом познания традиционно считается адекватность познаваемому миру как субъективных, так и выраженных в объективированных формах идеального моделей, которая в свою очередь проверяется в практической преобразовательной деятельности человека.
Идеал в системе отношений человека к другим людям может быть выражен таким образом: «В конечном счете, каждый человек, его благо выступает как цель общества. Не каждый человек есть средство для счастья общества, а деятельность общества является средством, целью которого является благо каждого индивида, его развитие, реализация им всех своих способностей, – в этом полнота жизни человека как личности. Все люди – через общество – для каждого» (Рубинштейн, 2002).
И наконец, идеалом становления человека как субъекта самоопределяющегося в мире, вероятно, является полнота его бытия: «Человек обретает всю полноту своего бытия и выявляется во всех своих человеческих качествах по мере того, как он выступает по отношению ко всем сторонам бытия, жизни» (там же).
5. Можно предположить, что в большинстве ситуаций возникновение потребности в одной из систем отношений порождает «инструментальные» потребности в других системах. Так, например, удовлетворение потребностей организма может оказаться невозможным без ориентировки в окружающей обстановке, установления отношений с другими людьми и самоопределения. При этом соотношение «основной» и «инструментальной» потребности может быть определено на основании того, депривация какой из них окажет более разрушительное влияние на человека в целостной системе его отношений с миром.
6. Потребность всегда отражает актуальное, «здесь и теперь» существующее отношение человека к миру и самому себе как части этого мира. Прошлое, предыдущий опыт вбирается в это отношение через то, каким стал сам человек, как он самоосуществился в предыдущих актах своей жизни, творческой самодеятельности. Будущее входит в актуальные потребности через его предвосхищение, построение образа будущего в сознании человека. Это положение близко к принципу современности в теории поля К. Левина, хотя и не сводится к нему буквально (Левин, 2000, с. 66).
7. Для того чтобы стать реально действующей, потребность должна найти то или иное выражение в субъективном отражении мира (включая и самого себя) человеком. Так, Л. И. Божович в определении потребности подчеркивает, что она должна быть отражена «в форме переживания (а не обязательно осознания)» индивида (Божович, 1997, с. 169). Вероятно, формы отражения потребности могут быть достаточно различны и, очевидно, далеко не всегда сознательны. В тоже время «чувствительность» человека к собственным потребностям, включая способность их осознать, – важное условие его становления субъектом своей жизни. Развитие способности понимать свои потребности и находить адекватные способы их удовлетворения является одной из основных составляющих психологической помощи в гуманистической психологии.
8. «Ненасыщаемость» потребности, как нам представляется, может отражать две принципиально различные ситуации: фиксация на потребности, для удовлетворения которой индивид не способен найти адекватный способ, и развитие потребностей как один из аспектов развития человека. Очевидно, что первая ситуация является неконструктивной для развития, становления человека, даже если она связана с «высокими» или «духовными» потребностями. Вторая же ситуация определяется тем обстоятельством, что удовлетворение некоторой потребности открывает для человека новые возможности, которые в свою очередь порождают новые проблемы и новые потребности.
Наряду с этим «насыщаемой» может быть как ситуативно возникшая и успешно удовлетворенная, так и вновь возникающая «повторяющаяся» потребность, которая удовлетворяется хорошо известным способом, не требующим приложения специальных усилий. Аналогично этому представления А. Маслоу об «уровне удовлетворенности» тех или иных потребностей, возможно, более правомерно было бы интерпретировать как наличие у человека способов для удовлетворения потребностей данного типа, а не удовлетворенность как таковую.
9. Связи между потребностями и способами их удовлетворения не являются предзаданными, они возникают в процессе жизнедеятельности человека. В то же время А. Маслоу обращает внимание на то, что «потребность может быть удовлетворена только с помощью истинного „удовлетворителя“» (Маслоу, 1999). Однако частичное удовлетворение, снятие острого напряжения может быть достигнуто и неадекватным для исходной потребности способом. Использование «готовых» предметов и способов удовлетворения потребностей, предлагаемых (а иногда и навязываемых) культурой, далеко не всегда оказывается адекватным для конкретного человека.
Вследствие отсутствия жестких связей между потребностью и способом ее удовлетворения, действуя в новой или нетипичной, изменившейся ситуации, субъект не может заранее знать, в адекватном ли для удовлетворения потребности направлении он развивает собственную деятельность. Только по завершении активности, порожденной той или иной потребностью, человек может оценить успешность ее удовлетворения.
В рассмотренных положениях мы попытались раскрыть существенные характеристики потребностей человека как субъекта своей жизни. Безусловно, эта проблема еще требует дальнейшего как теоретического, так и эмпирического исследования. Мы практически не касались взаимосвязей между потребностями и другими побудителями активности и деятельности человека – мотивами, ожиданиями, желаниями и др. Эмпирическое изучение потребностей человека является одной из наиболее сложных областей исследования, в рамках которой более чем неочевидны выбор и конструирование адекватных изучаемому предмету методов. Тем не менее мы полагаем, что дальнейшее изучение проблемы потребностей может внести существенный вклад в развитие субъектного подхода в психологии, а также обогатить теоретическую базу практических разработок в психологии образования, менеджмента и др.
Литература
Божович Л. И. Проблемы формирования личности / Под ред. Д. И. Фельдштейна. М.: Изд-во «Ин-т практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997.
Краткий психологический словарь / Ред. – сост. Л. А. Карпенко; Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. Ростов н/Д: Феникс, 1998.
Левин К. Теория поля в социальных науках. СПб.: Сенсор, 2000. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999.
Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечения человека. СПб.: Речь, 2003.
Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прогресс: Универс, 1994.
Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2002.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2000.
Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности: К философским основам современной педагогики / Избранные философско-психологические труды. Основы онтологии, логики и психологии. М.: Наука, 1997.
Проблема самодетерминации в контексте субъектного подхода
И. А. Мироненко (Санкт-Петербург)
Понятие самодетерминации пришло к нам на рубеже XX–XXI вв. из концепций западных ученых, где оно появилось в 1980-е годы и разрабатывается с тех пор в русле телеологического гуманитарного направления гуманистической психологии. Однако идея самодетерминации впервые была сформулирована в российской науке С. Л. Рубинштейном еще в 1934 году как понимание человека в качестве «субъекта» своей жизни и деятельности, в качестве активного деятеля, который не только изыскивает возможности для достижения стоящих перед ним целей, но и – главное – сам эти цели определяет. Как подчеркивал А. В. Брушлинский, основываясь на принципе субъектности С. Л. Рубинштейна, саморегуляция человека, в отличие от животного, «осуществляется безотносительно к любому заранее выбранному масштабу, эталону, критерию и т. д.» (Брушлинский, 1999, c. 119). Мыслительная деятельность человека, регулирующая его поведение и определяющая поступки, – утверждал А. В. Брушлинский, – осуществляется не столько как поиск средств для достижения поставленных целей, сколько как определение целей и их корректировка в процессе деятельности. Именно в русле субъектного подхода сложилось глубоко гуманистическое и в то же время строго научное понимание человека как субъекта, обладающего подлинной индивидуальной свободой, А. В. Брушлинский заключает: «Высшим уровнем детерминации субъекта является тот, на котором человек самоопределяется в своей свободе» (там же, c. 114). Таким образом, идея субъектности воплощает представление о подлинной и полной самодетерминации человека.
В работах российских ученых на протяжении советского периода идея самодетерминации развивалась в русле доминирующего естественно-научного направления, с присущим ему каузальным подходом к постановке проблем исследования. Связи психологии с естественными и гуманитарными науками одинаково вечны и неразрывны, однако есть между ними и существенное различие: если детерминистское, научное объяснение закономерностей психической деятельности человека опирается на данные естествознания, то науки гуманитарные: культурология, социология, искусствоведение и пр. – напротив, ищут опоры в психологии. С естественными науками психология в большей степени связана поиском объяснений, причин психических явлений в русле вопроса «почему?», что придает естественно-научному направлению в психологии его известный каузальный характер. С гуманитарными – поиском ответа на вопрос «зачем?», откуда проистекает «понимающая», описательная природа гуманитарного направления: «…у психологии обнаружились два лика, как у Януса: один обращенный к физиологии и естествознанию, другой – к наукам о духе, к истории, социологии; одна наука о причинностях, другая – о ценностях» (Ланге, 1914, с. 63).
Если в телеологических концепциях, развиваемых в русле гуманистической психологии гуманитарного направления западными коллегами, самодетерминация выступает в качестве ответа на вопрос «зачем?» в отношении поведения человека, то в русле естественно-научного направления традиционно задается вопрос «почему?» и предпринимаются усилия для вскрытия причинно-следственных связей.
В исследованиях российских ученых проблема самодетерминации была поставлена прежде всего как проблема детерминирующего влияния личности на функционирование субстрата, на протекание онтогенеза и структурную организацию психических функций.
Этот подход воплотился в теории деятельности А. Н. Леонтьева. Множество конкретно-психологических концепций и экспериментов, которые заключает в себе классическая работа ученого «Проблемы развития психики», объединены общей идеей: деятельность, активное взаимодействие со средой, направляемое и определяемое стремлением индивида к удовлетворению своих потребностей, – вот фактор, детерминирующий развитие психики, не только функционирование ее субстрата, но и, в конечном счете, структуру субстрата психики.
Детерминирующее влияние жизненного пути личности на ход онтогенеза и структуру психических функций раскрыто в концепции Б. Г. Ананьева. Напомним, что человек в понимании Б. Г. Ананьева является продуктом индивидуально-психического развития, которое выступает в трех подчеркнуто разведенных планах:
• онтогенетической эволюции психофизиологических функций индивида,
• жизненного пути человека – истории личности,
• становления деятельности и истории развития человека как субъекта труда, познания и общения.
Процесс человеческого развития, по Б. Г. Ананьеву, построен на взаимодействии различных, не слитых по своей природе начал. Единого закона человеческого развития ни в природе, ни в культуре – нигде, вне самого человека – просто нет, есть ряд относительно независимых факторов, влияние которых опосредуется и интегрируется индивидуальностью человека в процессе его самодетерминации. Именно индивидуальность определяет вектор – путь и направление человеческого развития. Индивидуальность изначально присутствует и проявляет себя, преломляя и соединяя биологическую индивидную программу, социально определяемую программу развития личности и программу становления субъекта деятельности, которая заложена в орудийнодеятельностных компонентах воспитания. В зрелом возрасте фактор индивидуальности становится доминирующим.
Легко заметить, что в данной концепции для подструктур индивида, личности, субъекта исходными являются не психологические категории. Б. Г. Ананьев выводит подструктуру индивида из биологических свойств человека, личность – из конкретно социологических характеристик, субъекта – из материальной базы, орудий, созданных цивилизацией. Вид, социум, цивилизация как бы прорастают в человека, формируя его психику, каждый в соответствии со своими законами. И только индивидуальность по своей природе представляет собой явление психическое – таким образом, психическое составляет интегрирующую основу и ядро, вектор и закон самодетерминируемого развития человека.
Человек в теории Б. Г. Ананьева выступает как, во-первых, исторически конкретный тип, специфический по своей психической организации в различные моменты истории, во-вторых, как самодетерминирующийся творец самого себя. От самодетерминации человека оказываются зависимыми не только уровень достигаемого развития (что является обычным для западных концепций), но и направление развития.
В соответствии с концепцией Б. Г. Ананьева, в процессе индивидуального развития взаимодействие биологических и социальных факторов порождает внутренние противоречия, которые и оказываются движущими силами индивидуального развития. Эти противоречия рассматриваются на уровне психических процессов, в структуре которых Б. Г. Ананьев выделяет функциональные, операциональные и мотивационные компоненты (механизмы).
Развитие функциональных механизмов подчиняется законам онтогенеза. Операциональные механизмы развиваются в результате освоения культурно-исторического опыта человечества. Противоречие между природными психофизиологическими функциями и социальными операциями в структуре психического процесса разрешается путем тренировки и структурирования созревающих функций в соответствии с общественно выработанными способами действия, таким образом, направление развития функций определяется интегрирующим влиянием личности – содержанием деятельности человека и его социальным поведением.
Б. Г. Ананьевым и его сотрудниками в широкомасштабных экспериментах продемонстрированы удивительные эффекты индивидуализации онтогенеза психофизиологических функций, в первую очередь сенсорно-перцептивных, в результате особенностей жизненного пути личности и становления субъекта профессиональной деятельности, описанные, в частности, в работах «Теория ощущений» (Ананьев, 1961), «Сенсорно-перцептивная организация человека» (Ананьев, 1977) и др. В этих трудах представлены данные, не имеющие аналогов в мировой науке.
В работах Б. Г. Ананьева в максимальной степени проявились такие присущие отечественной психологии естественнонаучного направления отличительные особенности, как:
• детерминизм во взгляде на становление человеческой индивидуальности, которая выступает как закономерный итог развития человека с присущими ему природными свойствами в конкретной исторической ситуации;
• объективный научный метод исследования индивидуальности, обязательное использование, наряду с экспериментальными, биографических методов и самонаблюдения;
• рассмотрение в единстве личностных и организменных феноменов, понимание того, что человек – «это не только отношения, это субстрат, который живет по всем законам развития материи и который, включаясь в те или иные системы социальных отношений, изменяет свои собственные потенциалы» (Логинова, 2005, c. 264).
Обращение к субстрату, подход к исследованию самодетерминирующегося субъекта в русле каузального естественно-научного направления является характерной и уникальной чертой российской психологической школы. А. В. Брушлинский пишет: «психическое… существует только как важнейшее качество субъекта (отнюдь не чисто духовного) <…> Субъектом является не психика человека, а человек, обладающий психикой» (Брушлинский, 2000, с. 45).
В контексте субъектного подхода подлинные смысл и значение приобретает сознание человека, механизм рефлексии. Человек обретает статус подлинного хозяина своей судьбы. Индивидуальное сознание человека здесь уже не только рассматривается в ряду прочих форм психического отражения, но обретает собственную важнейшую функцию, определяя контекст бытия, в котором существует и самореализуется личность: «Детерминизм не есть предопределеннность, детерминация… не дана изначально в готовом виде, а напротив, формируется субъектом как самоопределение в ходе деятельности, поведения и т. д… Детерминизм человеческой активности не исключает, а предполагает свободу» (Брушлинский, 2000, с. 46).
Парадоксальным образом в контексте теории, сформированной в условиях общества тоталитарной идеологии, оказался воплощенным принцип подлинной индивидуальной свободы и самодетерминации. В то же время в свете идеи общечеловеческих ценностей, распространенной в западной психологии с ее культом индивидуального бытия, индивидуальная свобода приобретает статус эпифеномена, оказывается свободой в выборе средств, но не целей.
В свете субъектного подхода обретает смысл и значение и проблема ответственности человека за свой выбор, свои поступки. Самодетерминирующийся субъект, будь то отдельный человек или человечество в целом (Брушлинский, 2000), уже не застрахован ни от ошибок, ни от ответственности за них, ни известной безошибочностью инстинктивного природного поведения, ни безальтернативностью социальных ролей и культурных норм. Таким образом, можно заключить, что субъектный подход открывает новые перспективы в развитии подлинно гуманистического понимания личности человека, его права на свободное развитие и самодетерминацию.
Российская психология внесла в мировую науку как минимум две идеи, оказавшие существенное влияние на развитие психологических исследований во всем мире: условный рефлекс (И. П. Павлов) и зона ближайшего развития (Л. С. Выготский). Концепции И. П. Павлова и Л. С. Выготского были сформулированы до того, как железный занавес отрезал российскую психологическую школу от интернационального сообщества, потому они были беспрепятственно интегрированы в структуру мировой науки. Впоследствии свободное распространение информации об исследованиях советских ученых за рубежом стало невозможным, что привело к тому, что достижения российских психологов большей части XX века за рубежом недостаточно известны. Процесс интеграции российской психологии в мировую науку, происходящий сегодня, является односторонним и ставит под угрозу сохранение достижений советского периода в контексте мировой науки.
В то же время среди достижений российской психологии советского периода есть концепции, которые, оставаясь недостаточно известными мировому сообществу, представляют сегодня несомненный интерес в контексте современных тенденций развития мировой науки. Таким представляется каузальный подход к самодетерминации, развитый российскими учеными в русле субъектного подхода С. Л. Рубинштейна. Накануне XXVII Всемирного психологического конгресса 2000 г. журнал «European Psychologist» (Tele-interviews, 2000) провел опрос среди 30 крупнейших психологов Европы. Их просили назвать основные достижения психологической науки XX века, основные вехи в ее современной истории, те новые тенденции в развитии психологии, которые, по их мнению, будут определяющими в XXI веке. В числе опрошенных был только один человек из России – А. В. Брушлинский, ответы которого на вопросы анкеты разительно отличались от остальных. А. В. Брушлинский важнейшим достижением психологической науки XX в. назвал субъектный подход С. Л. Рубинштейна. Остальные мэтры не видели места и роли субъектного подхода в развитии мировой науки. Из российских ученых упоминались лишь имена И. П. Павлова и Л. С. Выготского.
Субъектный подход нуждается сегодня в определенной герменевтике для того, чтобы быть вписанным в контекст современных дискуссий мировой науки. Сложный концептуальный аппарат российской психологии требует целенаправленной работы отечественного профессионального сообщества в этом направлении. Здесь недостаточно работы переводчика, тем более что само понятие «субъект» оказывается напрямую непереводимым на английский язык, доминирующий сегодня в мировой психологической науке, о чем неоднократно говорил А. В. Брушлинский. Часто приходится видеть, что профессиональные переводчики переводят данное понятие как subject, тем самым лишая научные тексты всякого смысла: ведь subject означает предмет, объект наблюдения, исследования, манипуляций и пр. Subject не предполагает наличия активного начала – это нечто, над чем производятся какие-либо действия.
Потенциал же востребованности субъектного подхода в мировой науке сегодня очень велик. Обращение к проблеме самодетерминации представляется неизбежным следствием гуманистического вектора развития современной мировой науки, осознание психологии как одной из тех наук, которые создают прочный научный базис для гуманизма. Признание человека, его личности и права на свободное развитие высшей ценностью заставляет психологов искать ответы на вопросы онтологического плана: в чем смысл человеческой жизни, в чем нуждается человек, в чем он свободен, и есть ли границы и пределы его свободе? Представляется, что здесь отечественная наука может внести самый существенный вклад в современные дискуссии.
Литература
Ананьев Б. Г. Сенсорно-перцептивная организация человека // О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977.
Ананьев Б. Г. Теория ощущений. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1961.
Брушлинский А. В. Гуманистичность психологической науки. // Психологический журнал. 2000. Т. 21. № 3. С. 43–48.
Брушлинский А. В. Субъектно-деятельностная концепция и теория функциональных систем. // Вопросы психологии. 1999. № 5. С. 110–121.
Ланге Н. Н. Психология. 1914.
Логинова Н. А. Опыт человекознания. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005.
Tele-interviews // European Psychologist, 2000. Vol. 5. N 2.
Субъектный подход в психологии духовных способностей
Г. В. Ожиганова (Москва)
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 08–06-00355а.
Внастоящее время в отечественной психологии субъектный подход существует как целостное научное мировоззрение, связанное с гуманистически ориентированной парадигмой исследований, которая становится все более и более распространенной. По мнению Д. А. Леонтьева, в психологии наблюдается отход от классической модели и движение в сторону признания уникальности человека и его сознания как объекта изучения, что диктует необходимость разработки гуманитарной методологии, в русле которой личность рассматривается как активный субъект, самосозидающий и самодетерминируемый, который способен быть источником и причиной своих действий (Леонтьев, 2007).
Основы субъектного подхода заложил С. Л. Рубинштейн в своей теории личности. В его концепции подчеркивается, что человек не пассивная, рефлекторная машина, а сознательное мыслящее существо, субъект практической и теоретической деятельности. Так, выделяется определяющее свойство субъекта – активность. Субъект не только познает мир, но и изменяет его, изменяя его, он изменяет и самого себя.
А. В. Брушлинский пишет: «Гуманистическая трактовка человека как субъекта противостоит пониманию его как пассивного существа, отвечающего на внешние воздействия (стимулы) лишь системой реакций, являющегося… продуктом (т. е. только объектом) развития общества» (Брушлинский, 1997, с. 40).
Основополагающее свойство субъекта – его активность – связывается современными сторонниками субъектного подхода с идеями о порождающей, творческой функции психики, которые выдвигаются как противовес доминировавшей в советской психологии отражательной модели психики. В них слышны отголоски концепции Рубинштейна, обрисовывающей «облик человека-творца, который, изменяя природу и перестраивая общество, изменяет свою собственную природу…» (Рубинштейн, 2002, с. 644).
Так, Л. А. Микешина и М. Ю. Опенков пишут: «Субъект творит истину, преобразуя объект, себя и свое знание о мире и объекте» (Микешина, Опенков, 1997, с. 66). Микешина подчеркивает, что в науке на протяжении длительного периода господствовала метафора «познающий человек – это зеркало», которая «существенно искажала реальное положение дел, заставляя ожидать от познающего копий, зеркально точных отражений действительности, тогда как на самом деле ожидание и, соответственно, оценка результатов должны быть другими, поскольку познание всегда идет „в режиме“ выдвижения гипотез, что предполагает господство творческого, интуитивного и изобретательного начала, интерпретацию и проверку гипотез, активное смыслополагание, создание идеальных моделей и другие приемы, не отражательного, а конститутивного и истолковывающего характера» (Микешина 2002, с. 16.).
Шадриков так же, как и вышеупомянутые современные авторы, говорит о том, что в отечественной психологии долгое время господствовала методологическая парадигма, основанная на жестких принципах внешнего детерминизма психики, обусловленная философской концепцией отражения. Отражательная функция психики превалировала в теоретических построениях, которые служили отправной точкой для эмпирических исследований. Шадриков полагает, что сегодня пришло время изучения внутреннего мира человека и внутренней психической жизни человека как реальности (для этого существуют как теоретические, так и экспериментальные предпосылки). Он выдвигает следующую важную идею: внутренний мир человека представляет собой потребностно-эмоционально-информационную субстанцию, которая может рассматриваться как душа человека в ее научном понимании (Шадриков, 2006).
Таким образом, концепция мира внутренней жизни человека, на наш взгляд, позволяет вплотную подойти к научному рассмотрению проблемы духовных способностей в связи с субъектным подходом.
В. Д. Шадриков определяет духовные способности как интегральное проявление интеллекта и духовности личности, рассматривая духовные способности в качестве способностей человека как субъекта деятельности и отношений в единстве с нравственными качествами человека как личности (Шадриков, 1998). Таким образом, исходя из этого определения, в духовных способностях можно выделить интеллектуальный и нравственный пласт.
В русле субъектного подхода основу их изучения составляют идеи внутренней активности субъекта, его целостности, свободы внутренней жизни, свободы выбора этой жизни, уникальности и ценности переживаний и внутреннего духовного опыта человека.
Нравственный аспект духовных способностей, на наш взгляд, может успешно изучаться в рамках субъектного подхода, основываясь на экзистенциальной исследовательской парадигме, открывающей доступ к ценностно-смысловой сфере человека, составляющей фундамент духовных способностей. «Экзистенциальный план исследований психической реальности проявляется в направленности ученых на анализ вариантов порождения опыта, имеющего смысл для субъекта» (Знаков, 2007, с. 335).
Другой пласт духовных способностей ассоциируется с интеллектуальной сферой, где активность и другие качества субъекта также играют определяющую роль.
М. А. Холодная выделяет среди прочих важных качеств, присущих интеллекту, такое как субъектность. Она пишет: «Изменения в составе и строении ментального опыта в значительной степени обусловлены активностью человека как субъекта деятельности, поэтому уровень интеллектуальной зрелости будет тем выше, чем больше инициативы он будет проявлять относительно поиска новой релевантной информации, преобразования проблемной ситуации, варьирования способов анализа проблемы, критичности в оценке происходящего, чем в большей мере его интеллектуальная деятельность будет нагружена индивидуальными ценностями (в том числе в виде «неявного знания») и т. п.» (Холодная, 2008, с. 243).
По нашему мнению, субъектность в проявлении интеллекта, трактуемая как активность, открытость ума, гибкость, критичность и одновременно постоянное стремление личности к продуктивному разрешению проблемных ситуаций, в основе чего лежит активная ценностно-нравственной позиция человека, является важным свойством интеллектуальной сферы духовных способностей.
Раскрываемая таким образом субъектность соответствует характеристикам духовного интеллекта, например, таким, как, выделяемые К. Нобл (Noble, 2000): критичность интеллекта в духовных процессах; толерантность к неопределенности, парадоксу и «страху чего-то не знать»; открытость ума по отношению к необычному и разнообразному опыту, а также глубокое понимание необходимости противостоять неблагоприятной обстановке, бороться с трудностями и способность переносить бедствия, неприятности, несчастья; сознательный отказ от саморазрушительных установок и поведения; способность осознать наличие внутренних ресурсов и использовать их; острота восприятия чувств (в особенности сострадание, эмпатия в отношении себя и других); обязательство более полно участвовать в жизни.
Л. И. Анцыферова, характеризуя процессуальный подход, разработанный С. Л. Рубинштейном на материале мышления и развиваемый А. В. Брушлинским, пишет: «Психическое как процесс представляет собой отнюдь не пассивное течение мысленного содержания, а особую психическую активность субъекта, направленную на анализ мира, на дифференциацию значимого и незначимого в нем, на синтез, обобщение обнаруженных свойств объектов». (Анцыферова, 2006, с. 56).
С нашей точки зрения, важнейшей духовной способностью, относящейся к интеллектуальному аспекту, является способность видеть и понимать суть вещей, которая основана на возможности отличать главное от второстепенного, и в то же время на панорамном, всеобъемлющем, универсальном мышлении, обладающем всеохватывающим синтезирующим потенциалом.
При субъектном подходе к изучению духовных способностей особое значение имеет принцип целостности субъекта. Это означает, что способности изучаются не как отдельные (парциальные) свойства личности, а в тесной связи с другими качествами субъекта, обусловливающими становление, проявление и развитие его способностей.
По мнению С. Л. Рубинштейна, различные аспекты психического облика личности тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены: «В реальной жизни личности все стороны ее психического облика переходят друг в друга, образуют неразрывное единство» (Рубинштейн, 2002, с. 515). Он говорит о тесной связи способностей и характера, который, в свою очередь, определяется направленностью личности, установками, ее стержневыми особенностями. Так, изучение способностей человека, создание полного и адекватного представления о его дарованиях предполагает знание о направленности субъекта – подлинном стержне его личности, а также о его характерологических свойствах.
Таким образом, согласно Рубинштейну, при исследовании способностей, необходимо ответить на три вопроса.