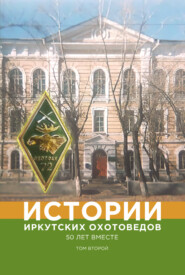скачать книгу бесплатно
Этот круг для меня, видимо, последний. Если всё будет нормально, то третьего числа планируем выезжать из тайги. Михаил меня вывезет, а сам после праздника вернётся. Если честно, то я уже сильно устал от неустроенности таёжного быта, да и физические нагрузки большие. Вот уже больше месяца изо дня в день накручиваю круги, обслуживая путики. Каждый день 10–15 километров по нерасчищенному путику: колодник, косогоры, подъёмы, переправы и т. д., и т. п. Да и по дому что-то уже скучать стал. Тайга тайгой, а милее родных перелесков нет нигде. Как там Люба с Алёшкой с хозяйством справляются? Ведь скот-то уже с полмесяца как на зимнее содержание поставили.
1 ноября. Пасмурно, тепло. Ночь и весь день порошит снег. Обильная кухта. Сегодня идти было особенно трудно; снег всё прикрыл – и колодины, и валежины, и камни. Частенько скользишь, падаешь. Слава Богу, Хозяин вознаграждает. До устья Остяцкого из капканов снял соболя и четыре белки, добыл двух рябчиков.
2 ноября. Вернулся береговым путиком в Центральное, здесь попало шесть белок. Михаил за эти дни добыл с собакой трёх соболей и десяток белок. Решили выезд пока отложить. Грех оставлять путики без обслуживания, когда погода благоприятствует, соболь есть и попадаемость его в капканы довольно хорошая. Да и с собакой что-то добыть шансы есть, пока снег неглубокий.
3 ноября. Утром с берега уходил, глубина снега была в пределах 10 сантиметров, а в верховьях ручьёв словно в другой мир попал. Идёшь, снег буровишь почти до колен. Каких-то 6–7 километров по прямой и такая поразительная перемена. Когда только его здесь навалило? Моих трёхдневных следов и в помине нет. На Проклятую пришёл только к темноте. Из капкана снял соболя. Возможно, того самого «профессора», который уходил от попавших в капканы белок. Во всяком случае, попал он на том самом участке путика по ручью Большому. Взрослый самец. Миша пришёл ночевать тоже в это зимовье. Он с собакой поднялся сюда по реке, добыл лишь двух белок.
4 ноября. Переменная облачность, подморозило. С Проклятой вышли в 9 часов и около 18 часов были в устье Остяцкого. Тайга, несмотря на полуметровый снег, сумела загнать на дерево соболя. В капканы попало две белки, добыл рябчика.
5 ноября. Ясно, мороз градусов 15. Фортуна нам улыбнулась и в последний денёк. На береговом путике сняли соболя и 8 белок. Подошли к броду через Проклятую – не тут-то было. Вода сильно поднялась, а лёд очень ненадёжный, много промоин. Пришлось нам ещё около двух километров продираться поймой Проклятой до её устья. Отсюда уже заберегами по Енисею добрались в 14 часов до Центрального зимовья. Как всё моментально изменилось за два морозных дня, когда мы уходили с берега, на Енисее не было и намёков на лёд, а сегодня уже забереги до 50 метров, быстро забивает льдинами протоку перед зимовьем.
Михаил сразу оценил обстановку – надо немедленно выплывать. Честь и хвала его решительности. Пообедали, прогрели мотор, погрузились и начали пробиваться до относительно чистой воды. С трудом, но нам это ещё удалось. Однако на этом проблемы не кончились. По фарватеру тоже густо несёт льдины, нужно быть очень внимательным, но главное – всю дорогу барахлил мотор. До темноты всё же успели приехать к левому берегу около зимовья Мишиного друга. Слава Богу, что всё так сегодня закончилось, могло быть намного хуже. От этого зимовья до Ярцево около 20 километров. Сюда уже можно проехать на машине или уйти пешком, если завтра с лодкой ничего не получится.
6 ноября. Утром развели около лодки костёр, прогрели мотор и начали пробиваться дальше. По Енисею гонит уже не только льдины, но и целые ледяные поля. Опять барахлил мотор, не раз срезало шпонку, но к 14 часам добрались до Ярцево. Крупно нам повезло. Сейчас, когда уже всё позади, вроде и не жалеем, что задержались с выездом, с юмором рассказывая о дрейфе «челюскинцев».
Вот такой подарок сделал мне Михаил на 50-летний юбилей. Посчастливилось через 25 лет снова поохотиться в тайге. Есть ещё порох в пороховнице!
А впереди ещё три охотничьих сезона с Михаилом на Проклятой…
Глущенко Сергей Петрович
Фото автора
Родился 12 мая 1955 г. Поступил в ИСХИ в августе 1972 г. во 2-ю группу. Окончил ИСХИ в сентябре 1977 г. Работал:
– с 1977 по 1997 – охотовед, начальник отделения, главный охотовед Мазановского госпромхоза;
– с 1997 по 2008 год – главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления министерства сельского хозяйства Амурской области;
– с 2008 по 2020 годы – начальник отдела по охране, контролю и регулированию численности объектов животного мира и среды их обитания областного управления по охране животного мира;
– с 2020 года начальник отдела ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ».
Женился 11 августа 1978 года, жена Валентина, учитель истории. Родили дочь Татьяну в 1978 году и сына Степана в 1982 году. Имеем двух внуков – Арсения и Назара.
К празднику
В прежние времена, как многие ещё помнят, День Великой Октябрьской Социалистической Революции – 7 ноября – отмечался широко. Это не только праздничные плакаты и демонстрации по главным площадям городов и сёл, но и традиционные обильные застолья. Конечно, на столах чаще подавалась свежина с домашнего подворья. Но особым спросом пользовалась дичь. В Амурской области самым желанным из дичи, в виду своей вкуснотищи, было мясо косули, или «козы», как её здесь называют местные жители. И подать из неё блюдо гостям к праздничному столу хотели многие. Промысловые заготовки косули в Мазановском районе проводил госпромхоз «Мазановский», в котором я работал охотоведом после окончания Иркутского сельхозинститута. Охотники-промысловики, вооружённые винтовками-трёхлинейками, на лошадях, специально в начале охотничьего сезона, заезжали в косульи угодья «козовать», потом уже двигались дальше к верховьям рек за соболем и лосем.
Как-то в конце семидесятых, когда я ещё был молодым охотоведом, директор госпромхоза перед праздником даёт мне задание съездить к охотникам и привезти добытых косуль, чтобы эту вкуснятину успели купить свои работники и, самое главное, местные начальники – райкомовские, райисполкомовские. Стоило это мясо тогда по прейскуранту недорого – всего полтора рубля за килограмм, и брали его с превеликим удовольствием, а ввиду ограниченного ресурса, продавалось оно только по разрешению директора.
Ехать к охотникам я должен был с водителем Виктором на ГАЗ-66, примерно за 100 километров, в верховья р. Гирбичек. Утром 4 ноября мы благополучно выехали. Снега к этому времени ещё не было вообще, хотя морозцы поддавливали, и земля хорошо подмёрзла. Без особых приключений, ещё засветло, добрались до места. На зимовье нас ждали пятеро промысловиков – Василий, Фёдор, Владимир, Пётр и Никифор. Они знали, что машина приедет, и постарались добыть, кто сколько успеет, чтобы не ударить, как говорится, «лицом в грязь» перед руководством госпромхоза. В те времена очень хорошо работало так называемое «социалистическое соревнование». Всем доводился план – чего и сколько должен сделать каждый (по пушнине, мясу, дикоросам), и дважды в год, весной и осенью, подводились итоги с поощрениями передовиков. Это очень даже стимулировало промысловиков: хорошо поработаешь – больше заработаешь, ещё тебе почёт, уважение и дополнительное поощрение! Вот и старались охотники.
Учитывая, что сезон охоты начинался с 1 ноября, к нашему приезду отстрелять смогли немного – по 5–7 косуль, но самый добычливый Никифор добыл их десяток и ещё лося. Добыча каждого лежала в отдельных кучках, накрытая шкурами. Куча Никифора смотрелась самой большой. Этот охотник выделялся среди всех. Был он приятен внешне – большой, сильный, остёр на слово, отличался хорошим юмором и большой работоспособностью. Всегда старался добыть больше всех, заработать побольше, но при этом оставался крайне скуп и своего не упускал.
Предполагая, что предстояло ночевать, а народу собралось много, решили сварить на вечер побольше шурпы из «козлятины». Тут, уже почти по тёмному, приехал на лошади ещё один охотник, Алексей. Промысловики, что были на зимовье, охотились бригадой, а этот предпочитал самостоятельно. Он сначала расставлял капканы на пушнину а потом уже промышлял мясо, потому и привёз всего одну косулю, да ещё собаки наткнулись на берлогу, и ему удалось добыть медведя. Пока разговаривали, он разделал косулю и тушу подвесил, чтоб замёрзла, как положено по стандарту на сдачу. Тем временем Никифор, как самый активный, стал готовиться варить шурпу. Взял ведро, вышел из зимовья и вернулся с полным ведром нарубленной козлятины. Понятно, я подумал, добыл он больше других и ему приятно угостить товарищей. Шурпа варилась на печке и заполняла ароматом всё помещение. Получилась добротная, наваристая. Под разговоры и байки Никифора наелись, обговорили основные новости, сытые и довольные легли спать, кто где пристроился. Проснувшись утром и выйдя из зимовья, я увидел, что от единственной косули, которую добыл Алексей, почти ничего не осталось. Оказывается, Никифор вечером накормил всех его добычей, при этом свою кучу мяса оставил в целости. Я поинтересовался, почему он так поступил? На что он без смущения отпарировал: «Эта свеженькая вкуснее, чем его вчерашние да позавчерашние». Алексей, может быть, тоже слегка опешил, когда увидел жалкие остатки мяса, тоскливо висящие на вешалах, но особо вида не подал.
Понимая, что ему отправлять с нами на склад будет нечего, он попросил съездить с утра и забрать добытого медведя. По его словам, проехать нужно всего около восьми километров, из которых шесть по лесовозным дорогам и пару по чистой мари, за пару часов должны обернуться. Решив, что медвежатина тоже к празднику на складе очень даже пригодится, я согласился. Виктор, шофёр нашего ГАЗ-66, это решение принял без энтузиазма. Но ехать нужно. Утро было пасмурным и тёплым, что было предвестником смены погоды. Как рассвело, мы выехали. Немного отъехали, и начал тихонько капать дождь, что для ноября совсем не характерно. Затем полетели снежинки, постепенно всё гуще и гуще. Только проехали до конца лесовозки и выехали к началу мари, снег повалил хлопьями, засыпая всё вокруг, в том числе и следы машины. Видимость сократилась до крайности, хотя, по словам Алексея, оставалось проехать по чистой мари меньше двух километров до большого языка леса, среди которого проходит квартальная просека, и на ней как раз и лежит медведь. В окружившей нас густой снежной кутерьме определить, где искомый лес, а тем более просека, казалось нереальным. Витя начал нервничать – куда едем, ничего не видно, давайте назад. Я его успокаиваю, мол, недалеко совсем осталось, заберём этого медведя, и назад. Продолжая двигаться по мари, я заметил вертикально торчащую из снега палку, которая была срублена и воткнута вершинкой вниз. Сразу вспомнились лекции нашего институтского преподавателя по лесоводству Натана Михайловича Красного о лесоустройстве. Такие вешки должны ставить лесоустроители на квартальной просеке в тех местах, где нет леса. Остановились, и я начал искать следующую вешку и вскоре её обнаружил. Теперь нам было понятно направление, где искать медведя. Но тут Витя сдался. Сказал, что никуда дальше не поедет, не хватало ещё, чтобы машина провалилась. Упёрся и ни в какую. Ищите, говорит, пешком, а потом меня позовёте.
Пошли мы с Алексеем по вешкам, снег начал немного редеть, и стал впереди виден лес. Метров через пятьсот добрались до берлоги, где он добыл медведя, посмотрели подъезд, и я пошёл назад за машиной. Снег к тому времени ослаб, но за два часа выпало его около двадцати сантиметров. Вышел на край леса, машу руками Вите, мол, подъезжай. А шевелений машины нет. Дай, думаю, стрельну из винтовки – неохота по мари снег топтать. Стрельнул – не реагирует, ещё пару раз отсмалил – безуспешно. Пришлось идти до него. Подхожу, а он спит себе преспокойно. Разбудил.
– Ты чего? – говорю.
А он:
– Прости, уснул!
Я понимал, что перенервничал он, от того и сморило. Зато настроение у него улучшилось, поехали до медведя, загрузили его кое-как – здоровый попался. Даже разделанный, он тянул не меньше, чем на полтора центнера мяса, да ещё жиру с полцентнера. Назад ехать было попроще, снег хоть и шёл, но видимость была. К зимовью добрались, когда начало уже темнеть. Вот тебе и пару часиков на дорогу! В лесу нельзя зарекаться, всякое бывает.
Решили в ночь не ехать, дождаться утра. В зимовье, уже когда обогрелись, поели, я спросил Виктора – чего он так нервничал? Ну, забуксовали бы, так подважили бы, поддомкратили, подрубили, да и выехали. Его ответ меня убил.
«Чем, – говорит, – домкратить? Нету домкрата!»
Я ему: «Ничего себе! Как ты поехал?»
А он – кто-то, мол, забрал с машины.
Я в ответ: «На крайняк, ваги бы срубили, подважили или воротом!»
Тут он мне и выдал: «Чем рубить? Нету у меня топора! И тросов нет!»
На такой ответ я только и смог выдать: «Ты что, пешком захотел походить? Как ты в лес поехал?»
Но его завершающая фраза меня окончательно сразила. Он выдал: «Да у меня и обуви, кроме ботинок, нету другой – ни сапог, ни валенок. Да и запаски на машине нет!»
Это было слишком…, отчего я и выпал в полный осадок. На улице опять начался снег, а ведь нам ещё предстояло сотню километров проехать по ненакатанным зимникам!
Наступило утро 6 ноября. За сутки нападало больше 30 сантиметров снега, всё кругом бело. Погрузили добычу охотников на машину и поехали в обратный путь. По дороге только и думалось – сколько проехали и сколько осталось. Среди покрова свежевыпавшего снега местами встречались большие косульи тропы с направлением на юг. Это мигрирующая популяция косуль под снег делала переходы в зимние стации – поближе к полям, равнинам. Прошло за сутки здесь косуль немало, несколько сотен точно, хотя по дороге в глаза видели всего несколько штук. Когда заехали по пути к лесорубам, которые заготавливали дрова, они рассказали, что во время снегопада косуль шло немерено, но они не обращали на них внимания.
За высматриванием косуль постепенно забылись переживания по поводу автомобиля.
И вдруг мой Витя останавливает машину, обходит её и сообщает, что пробили колесо. Ну, уж это, думаю, крандец. До райцентра осталось около пятнадцати километров, придётся идти кому-то пешком. А как Витя в ботинках пойдёт? Придётся мне, у меня есть сапоги-болотники, для мокрого снега нормально. Только оптимизма почему-то нету. Тут Витя хлоп себя по лбу!
– Да у меня же, – говорит, – на это колесо подкачка работает!
Включает – точно, поднимается баллон, но шипит сильно, дыра, видно, хорошая. Я в душе перекрестился – есть же Бог на свете! Едем дальше, Витёк поторапливается, доехать спешит. Заезжаем во двор госпромхоза, только подкатила «шишига» к складу, колесо и спустило. Тут подошёл директор – что, мол, случилось?
Рассказал ему как есть. Он понял, не стал ругаться, собрал людей, кто был. Быстро помогли разгрузиться, а заодно и прикупили мяска к празднику. Теперь можно идти праздновать 7 ноября, как и положено, с дичью. Дома праздновать намного лучше, чем в застрявшей или сломавшейся среди тайги машине.
P.S. С тех пор много приходилось ездить в тайгу по разным делам и с разными людьми, но первым делом для меня было уточнить укомплектованность и готовность автомобиля, а также экипажа. Спасибо Вите, научил. К счастью, больше такого пофигизма, как у него, мне не встретилось.
На берлогу
Дело было в начале 90-х годов. Я в то время работал главным охотоведом в Мазановском госпромхозе Амурской области. Приходит как-то в начале февраля ко мне в контору один штатный охотник, звали его Алексей Федосеевич. Промысловик опытный, передовой охотник и очень порядочный человек. Был он глуховат, но это особо не мешало ему в охоте. Приспособился охотиться с собаками и пользоваться их слухом. Одна собачка всегда была возле него на привязи, и по её поведению промысловик определял, что происходит на удалении. Если другие собаки нашли соболя, лося или ещё кого, то эта начинала беспокоиться и тянуть хозяина в их сторону. Он добывал немало зверей и каждый год обязательно по нескольку медведей.
Так вот, Алексей Федосеевич поведал мне, что собаки нашли берлогу с медведем, стрелять не стал, решил уточнить, есть ли в промхозе ещё лицензии. А в то время сезон отстрела косолапых длился до конца февраля. Лицензии тоже были. Я решил поучаствовать с ним в добыче зверя, давно хотелось сделать интересные фотографии с охоты на берлоге. Договорились ехать на промхозовском УАЗ-452 с егерем Анатолием. Узнав о наших планах, с нами попросились ещё двое желающих пощекотать себе нервы: Сергей – свободный от службы милиционер и Владимир – егерь охотнадзора. Я не стал возражать, потому как дорога предстояла неблизкая, почти две сотни километров, вполне возможно было встретить в лесу браконьеров, и помощь этих парней могла пригодиться.
На следующий день всем составом рано утром выдвинулись в верховья р. Ульма до ближайшего от берлоги зимовья охотника. К вечеру благополучно добрались до места, за ужином обсудили план действий и улеглись по нарам. Благо зимовье было просторное, и всем хватило места, чтобы свободно выспаться, нам ещё предстояло пешком идти до берлоги около пяти километров да обратно по февральскому немалому снегу.
Утром, подкрепившись, выдвинулись к месту охоты. Впереди, на лошади с волочащейся за ней пэной, двигался сам промысловик со своим кобелём-медвежатником, а следом мы вчетвером. Путь наш шёл вдоль ключа, а потом нужно было подняться по довольно крутому склону сопки. Подходить старались без лишнего шума – ведь зверь уже был собаками потревожен раньше и мог уйти. Охотник оставил лошадь, не доходя до берлоги, отпустил с привязи собаку. Берлога оказалась на крутяке, поросшем рододендроном и небольшими деревьями. Пёс подбежал к большой старой лиственнице, под корнями которой косолапый устроил своё жилище, и стал лаять. Значит, медведь на месте, не сбежал. Для съёмки расположение берлоги оказалось очень неудобным. Единственным подходящим местом для этого оказалась точка, расположенная чуть ниже берлоги, прямо напротив чела. Я понимал возможную опасность, ведь медведю, в случае чего, скатиться вниз ко мне было самым вероятным путём бегства при промахе охотников. Но молодость и большое желание получить редкие фотографии были сильнее рассудка. Тем более, что страховали меня опытные охотники.
Стрелки встали по двое с боков от чела берлоги, а я с фотоаппаратом напротив, внизу, за небольшой осиной. Алексей Федосеевич, имея промхозовскую винтовку-трёхлинейку на медведя в берлоге предпочитал ходил с двухстволкой. Считал, что такое ружьё накоротке надёжнее. И в этот раз он стоял у берлоги с ТОЗ-34, заряженным крупной картечью. Рядом с ним с винтовкой страховал Анатолий. С другой стороны стояли с СКСами Сергей и Володя. У меня тоже было оружие – карабин СВТ. Стрелял он точно, но частенько бывали сбои – то гильза стреляная застрянет, то ещё что-нибудь. Одним словом, ненадёжное оружие. Да я и не рассчитывал на стрельбу надеялся на страхующих.
Пока расстанавливались, раздался грозный медвежий рык, и немного показалась чёрная голова. Кто слышал такой рык, тот знает силу его воздействия на психику человека. Не зря существует множество историй, когда охотники от этого звука теряли самообладание и забывали про ружья. Я тоже инстинктивно отпустил фотоаппарат и схватился за свой СВТ. Медведь спрятался и глухо рычал из недр берлоги. Я опять приготовился к съёмке, но зверь никак не вылезал, только глухо рычал. Томительное ожидание несколько расслабило, начали выдвигать версии, как выманить его. Даже пёс стал менее активно лаять и иногда поглядывал на охотников – мол, быстрей соображайте! Вот опять мелькнула чернота, а следом и сам медведь по грудь. Пока я ловил его в кадр, стрелки закричали: «Снимай, снимай». Медведь, увидев опасность возле себя, бросился к Алексею Федосеевичу и Анатолию. Раздались два выстрела, и зверь упал. Мне удалось сделать только один снимок в момент разворота медведя. Потом снимал уже поверженного. Стрелки возмущались, почему я долго не снимал, а я их упрекал – зачем они закричали, не дали сделать хороший кадр. Так обычно бывает после охоты, когда эмоции будоражат кровь охотников.
Стали рассматривать медведя, оказалась самка. Давай проверять берлогу, а там – пара недавно родившихся медвежат. Сразу стало не по себе. Хоть от медведей и много вреда, но тут совсем беспомощные малыши, которых мы оставили без матери. Конечно, пришлось взять их с собой. Позднее Алексей Федосеевич признался, что когда стояли у берлоги, то по её виду он понял, что внутри сидит самка, но не думал, что с медвежатами.
Тушу стащили с сопки вниз, к лошади, погрузили на пэну и пошли до зимовья. Уже на месте, когда снимали шкуру с медведицы, стали рассматривать попадания от выстрелов. Оказалось, что заряд картечи от поспешного выстрела охотника прошёл по мякоти вдоль груди, зацепив мышцы передней лапы, и, по сути, не остановил зверя. Удачно выстрелил Анатолий из винтовки и попал точно по голове. После этого все пришли к одному выводу – слава Богу, что никто не пострадал. Да вообще, когда много народа, то такая неразбериха бывает.
Теперь у нас была задача спасти медвежат. Покормили их сгущёнкой и поехали поскорее в посёлок. Сразу скажу, что судьба малышей сложилась неплохо. Первое время они жили у Володи-охотинспектора. Молоко их коровы пришлось медвежатам по вкусу, росли быстро. И аппетиты росли вместе с ними. Через месяц уже молока стало не хватать Володиной семье. В те времена коров было немало в посёлке, стали медвежат передавать на передержку одним хозяевам на недельку-другую, потом другим. Таким образом, Мишку и Машку, как успели их окрестить, знали не только в Мазановском районе. Многим было интересно посмотреть на малышей, успевших привыкнуть к людям и умилявших своей непосредственностью. Детвора ими восторгалась, да и взрослые не отставали. Корреспонденты разные навещали, даже из областного телевидения. В областном охотуправлении знали об этих медвежатах и подыскивали для них достойное пристанище. В конце апреля их забрали в Хабаровск для цирка.
А с фотографиями тоже получилась история. Чтобы не испортить плёнку с кадрами, полученными с риском для жизни, я отдал её профессиональному фотографу районной газеты «Знамя труда». Когда он плёнку проявил и показал мне, я увидел, что негативы вышли неплохие. Фотографу они тоже приглянулись, и у него возникла идея написать в газету статью про охотника с моими фотоиллюстрациями. Я не стал возражать и плёнку сразу не забрал. Когда статья вышла, то плёнка вдруг потерялась. Фотограф мой долго пытался её найти в своём огромном фотоархиве, но безуспешно. Так и пропали снимки, не увиденные даже мною. После той памятной поездки я навсегда остался противником охоты на медведей в берлоге после Нового года, когда начинали рождаться медвежата. Те, увиденные мною беспомощные малыши до сих пор стоят перед глазами.
Дорошенко Сергей Васильевич
Фото автора
Родился 6 января 1952 г.
Поступил в ИСХИ в августе 1972 г. в первую группу.
Окончил ИСХИ в сентябре 1977 г.
Работал:
– с 5 декабря 1977 г. по 6 апреля 1981 г. – охотовед Тенькинского района Магаданской обл.;
– с 2 декабря 1982 г. по 12 ноября 1989 г. – там же, старший товаровед по пушнине;
– с 13 ноября 1989 г. по 1 июня 1993 г. – начальник участка Тенькинского производственного участка в Магаданпромохоте;
– с 1 июня 1993 г. по 1 декабря 1996 год – охотовед в управлении охотхозяйства;
– с 1 июня 1996 года – из-за сокращения штатов и расформирования Магаданпромохоты уволен. Безработный.
В 2001 году уехал на материк, где и проживаю до настоящего времени.
Коротко о встречах с братьями охотоведами
В соавторстве с Рябушкиным В. Г.
Фото Дорошенко С. В.
Хочу вам рассказать, друзья, о своих встречах с охотоведами в период с 1983 по 1988 годы.
Когда в очередной раз Магаданпромохоту реорганизовали, все промыслы, вместе со штатными охотниками, передали в УРС «Северовостокзолото».
С началом мая я обычно выставлял бригаду рыбаков на Охотское побережье в районе п. Нюкля. Начинали с вылова мойвы закидными неводами, ловили её по 50–60 тонн. Затем начинался ход красной рыбы – нерки, горбуши. Икру перерабатывали на месте. Продукцию сдавали в Торговую контору УРСа. Сезон длился до двух месяцев. Рыбаки неплохо зарабатывали.
В качестве премии, по желанию, продавали автомобиль «Жигули» без очереди.
В один из сезонов, кажется, в 1987 году, приезжал Валерий Рябушкин.
Сергей, позволь мне, Рябушкину Валерию, немного добавить к твоему повествованию. Ты подзабыл – был я в бригаде три путины.
Бывало, назначался «дежурным по алкоголю», как малопьющий. Из Магадана активно наезжал народ с целью поживиться рыбкой в обмен на «огненную воду». Самогон не котировался, а приличные напитки я изымал и запирал в кунге «шишиги». Ключ носил на шее и стойко сопротивлялся всяким поползновениям по изъятию спиртного. Свободный доступ в кунг открывался лишь на день рыбака. Дня три бригада не работала…
А вот, ещё вспомнил. Как-то после дня рыбака у некоторых «горели буксы» – требовалась «охлаждающая жидкость». Вспомнили, что накануне, недалеко от лагеря, в месте, где копали червей, зарыли двухлитровую банку со спиртом. На чёрный день. Закапывал член бригады, если не ошибаюсь, Соболев Толя. Сергей, поправь, если что. Пошли искать. Впереди Соболев с лопатой, за ним человека три в помощь. Копали, как археологи: предмет вожделения хрупкий. Взрыли не меньше сотки. Нет банки… Погрустили, забыли. Вспомнили через год – спирт-то не портится! Вскопали сотки три – ноль результат. И только в конце путины Толя сознался – он выкопал и, соответственно, утилизировал продукт на следующий день после того, как зарыл. Настроение было хорошее – бить не стали. На третий год по приезде на берег увидели на месте наших раскопок цветущую картошку. Местные из п. Нюкля решили – зачем пашне пропадать…
Но ты продолжай, Сергей, продолжай…
Фото Дорошенко С. В.
Несколько сезонов с нами работал Евгений Разливалов, охотовед 1976 года выпуска, ну и я. Так собралась троица друзей. Отработали нормально, всё шло по давно накатанной колее. Рыбу брали по утреннему приливу и по вечернему. Замечательно провели время, Женя Разливалов был «менеджером» по связям с населением. Наши палатки стояли недалеко от места высадки на Охотское побережье экспедиции Билибина, популярное место у молодожёнов, сколько выкупов взяли, повеселились вволю. Есть что вспомнить.
К сожалению, Евгений покинул нас, сердце подкачало…
Желаю всем здравствовать на радость близким и друзьям!
Елистратов Виктор Григорьевич
Фото автора
Родился 1 февраля 1955 г.
Поступил в ИСХИ в августе 1972 г. во вторую группу.
Окончил ИСХИ в сентябре 1977 г.
Работал:
– с октября 1977 по март 1979 года – инженер-охотовед Западно-Сибирской проектно-изыскательской экспедиции;
– с марта 1979 по февраль 1994 года – мастер-инструментальщик АООТ «Новая Бряньсельмаш»;
– с апреля 1994 года по март 1996 года – кондуктор грузовых поездов АО «Челутай-Лес»;
– с апреля 1996 года по февраль 2020 года – составитель грузовых поездов ОАО «СУЭК» Тугнуйское ПТУ.
В 2019 году награждён Почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.
Жуков Алексей Анатольевич
Фото автора
Родился 12 ноября 1954 г. в городе Нижний Тагил Свердловской области, но до шести лет жил в Приморье, в Шкотовском районе. В 1960 году, после второго хрущёвского сокращения вооружённых сил, семья наша возвратилась в Нижний Тагил.
Отец – Жуков Анатолий Николаевич, майор в отставке ВВС СССР, участник нескольких войн, в том числе Финской и ВОВ. После демобилизации работал заместителем начальника учебного цеха в Нижнетагильском МК до выхода на пенсию.