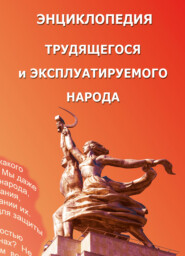скачать книгу бесплатно
– наличие территории и природных условий (среды обитания), подходящих для выживания и развития народа как исторической общности;
– самостоятельность бытия (суверенитет) народа (См. Суверенитет народа; Суверенитет государственный);
– потенциал субъектности, необходимый и достаточный для выживания и развития народа как исторической общности. Потребность в потенциале субъектности проистекает из того, что движущими силами истории являются субъектные действия. Требуется определённый их массив и состав, чтобы народ мог творить свою историю (См. Субъектности потенциал);
– общественное устройство, обеспечивающее полноценное выполнение функций общества как ипостаси бытия народа (См. Общество; Устройство общества).
Основные типичные опасности, защищённость от которых обеспечивает национальную безопасность, таковы:
– внешние опасности:
1) разрушительные и особо неблагоприятные природные (стихийные) условия и факторы. Это может быть опасность наводнений, засух, землетрясений, длительных холодов, тайфунов и т. п. Опасности такого рода бывают нерегулярными (извержения вулканов, землетрясения, засухи, наводнения) и регулярными (суровые зимы, летняя жара, сезоны дождей, например);
2) агрессия любых внешних сил или государств (См. Агрессия). Внешняя агрессия нарушает или разрушает нормальное самостоятельное историческое развитие народа (См. Суверенитет), создаёт угрозу зависимости;
3) зависимость, ограничение или утрата самостоятельности исторического развития (суверенитета) (См. Зависимая страна; Иго; Ярмо; Колониальная зависимость);
– внутренние опасности:
1) властные отношения (политика, управление), приводящие к истощению или деградации субъектного потенциала народа (включая потенциал активности и моральный потенциал);
2) властные отношения (политика, управление), приводящие к истощению или деградации природных, хозяйственных, трудовых ресурсов, к разрушению среды обитания;
3) властные отношения (политика, управление), приводящие к деградации общественного устройства или к его несоответствию задачам обеспечения эффективного исторического творчества социальных сил.
Потребность обеспечения национальной безопасности непременно учитываются в устройстве бытия народа (в его хозяйстве, культуре, обычаях, морали, во внешней, оборонной и внутренней политике государства, во всех сферах). В этом деле исключительно важны преемственность и стратегическое видение. Не случайно на государственном уровне принимаются документы по проблемам национальной безопасности (например, в США закон «О национальной безопасности» (1947), в России – «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (2009); «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (2015))
Приходится отметить, что в официальных российских трактовках национальной безопасности преобладает несколько механистический (суммирующий) подход. Вот определение национальной безопасности, принятое в вышеназванных «Стратегиях…»:
«национальная безопасность Российской Федерации (далее – национальная безопасность) – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации (далее – граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности…»
Реальное соотношение разных видов безопасности – качественно иное. Национальная безопасность – не сумма (не набор) разных видов безопасности (безопасностей разных частей и сфер бытия народа, обеспечиваемых по отдельности), а базовый вид безопасности, обеспечивающий единство, целостность всех видов безопасности (безопасности самых разных сфер и частей народного бытия). Как и всякий структурированный исторический процесс, процесс обеспечения национальной безопасности содержит в себе внутренние противоречия. В случае обострения таких внутренних противоречий обеспечение национальной безопасности должно иметь приоритет.
Подтверждением этого вывода является практика формирования и развития структуры народного хозяйства (инфраструктуры бытия народа). Каждый из крупных народнохозяйственных комплексов (См. Крупные народнохозяйственные комплексы), преисполненный уверенности в своей первостепенной важности в деле обеспечения экономической или оборонной или информационной или энергетической безопасности, стремится к максимальному росту, отвлекая на себя ресурсы страны. Приходится находить критерий сбалансированности. И этот критерий отыскивается именно в пространстве обеспечения национальной безопасности.
Другое подтверждение того же вывода – практика любой социальной революции. Предреволюционная ситуация (См. Революционная ситуация; Кризис системный) всегда характеризуется конфликтом интересов народа и интересов правящего политического режима. Проблема обеспечения государственной безопасности в этой ситуации состоит в сохранении правящего политического режима (См. Безопасность государственная). А проблема обеспечения национальной безопасности состоит в свержении правящего политического режима, замены его новой государственной властью. Революция разрешает конфликт в пользу национальной безопасности, обеспечивает национальную безопасность путём обновления государственной власти (чаще всего – путём смены типа государственной власти (См. Революция социальная).
Механизм обеспечения национальной безопасности по-разному строится и действует при демократических и недемократических типах власти.
Тоталитарные власти полностью узурпируют обеспечение национальной безопасности. Они объявляют собственную власть высшим национальным (народным) интересом. Национальная безопасность и государственная безопасность для них одно и то же. В конечном счёте тоталитарные режимы всегда оказываются мощным фактором подрыва национальной безопасности и ввергают историю народа в исторический тупик (См. Тупик исторический).
Авторитарные политические режимы исходят из того, что обеспечение национальной безопасности – это в основном дело государства, «дело вертикали власти», но при этом допускается и взаимодействие с негосударственными субъектами как со своего рода «пристяжными», пособляющими. Именно такая концепция обеспечения национальной безопасности зафиксирована в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (2015):
«обеспечение национальной безопасности – реализация органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов;
….
система обеспечения национальной безопасности – совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности органов государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в их распоряжении инструментов».
В демократических обществах негосударственным субъектам и институтам отводится более значительная роль в обеспечении национальной безопасности. Главный вклад институтов демократического гражданского общества в обеспечение как государственной, так и национальной безопасности – недопущение авторитарного (самодержавного) и тоталитарного (фашистского) характера государства. Кроме того, осуществляется постоянный общественный контроль над деятельностью властей. И наконец, – и это исключительно важно для всей системы обеспечения национальной безопасности – в демократическом обществе всегда имеются социальные силы (партии, движения, организации), способные своевременно включиться в революционное разрешение конфликта обеспечения национальной безопасности и государственной безопасности.
Исключая из политической системы или подавляя и пригнетая влиятельные общественные силы, урезая и узурпируя права человека, тоталитарные и авторитарные режимы неизбежно доводят конфликт обеспечения национальной безопасности и государственной безопасности до острых состояний, в которых народные массы недостаточно организованы для конструктивного разрешения конфликта. В итоге разрешение конфликта и обеспечение национальной безопасности происходит в виде восстаний, «майданов», гражданских войн и цветных революций (которые, кстати сказать, зачастую выводят из исторического тупика в исторический зигзаг) (См. Цветная революция; Зигзаг истории).
БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД (англ. universal basic income (UBI)) – категория одной из современных поисковых социально-экономических концепций.
Природа предлагаемой меры. По своей природе (по идейному происхождению) безусловный базовый доход является социальным проектом (См. Проектирование будущего). То есть он порождается не реальной практикой народного бытия с последующим осмыслением наукой, а вырабатывается социальными мыслителями как рецепт решения осознанных ими практических проблем и, по логике вещей, требует основательного осознания обществом и государством на предмет целесообразности и пригодности для практического применения.
Проблемы, для решения которых предлагается использовать безусловный базовый доход. Примерно с 1980-х годов в странах Запада (в лидируюших капиталистических странах) началось более или менее отчётливое осмысление качественно нового комплекса социально-экономических проблем. Эти проблемы стали ощущаться как проблемы и развитых капиталистических стран, и всего по-капиталистически глобализуемого мира. Какого рода проблемы попадают в поле зрения проектировщиков безусловного базового дохода? То есть для решения каких проблем современного капитализма предназначается такой инструмент, как этот проектируемый доход?
По большому счёту, это проблемы устойчивости развития современной капиталистической системы (См. Устойчивость; Устойчивость историческая). Всё большую тревогу вызывает социальная разобщённость (См. Разобщённость) и трудности обеспечения необходимой и достаточной сплочённости (См. Сплочённость). Социальное неравенство нарастает, и задачей теперь считается не его сокращение, а хотя бы сдерживание нарастания. Социальное неравенство всё отчётливее осознаётся в обществе не только как неравенство доходов, а как неравенство социальных возможностей, как нарастающая разнокачественность жизнедеятельности – труда, быта, досуга, общественной деятельности (См. Неравенство социальное). Как добиться, чтобы осознание современной социальной ситуации как тревожной, неблагополучной и несправедливой, потенциально неустойчивой сменилось её осознанием как благополучной, устойчивой и справедливой? Среди способов удовлетворительно решить эту задачу одно из ключевых мест принадлежит, по замыслу его разработчиков, новому, доселе невиданному доходу – безусловному базовому доходу.
Существо и содержание проектируемой меры. Безусловный базовый доход (universal basic income (UBI)) запроектирован как государственная выплата всем гражданам страны фиксированной денежной суммы, обеспечивающей им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации. Выплата не зависит ни от общественного (социального и экономического) положения получателей, ни от их рода деятельности. Не устанавливается никаких условий получения и расходования этого пособия.
Ожидаемые социальные эффекты. Разработчики и сторонники этой меры ожидают, что она позволит решить, прежде всего, проблему нестандартной, неустойчивой и недостаточной занятости. Даровой минимальный доход не увеличит занятости, но отчасти примирит людей с её нехваткой и неустойчивостью. К тому же, значительная часть трудящихся отчуждённо относится к своей работе, а потому введение безусловного базового дохода позволит им избавиться хотя бы от части работы.
Ожидается также, что введение безусловного базового дохода создаст массовое впечатление возросшей социальной справедливости и отвлечёт массовое внимание от явно несправедливых разрывов в уровне доходов. А поскольку безусловный базовый доход будет «положен» каждому ребёнку и каждому старику, то можно будет существенно перестроить всю систему пенсионного обеспечения, социальной защиты и социальной помощи.
Имеются и иные немаловажные ожидания, в частности надежда сгладить предстоящие противоречия в связи с вероятным возрастанием разрыва между «интеллектуально и биологически продвинутым меньшинством и безнадёжно тупым и неразвитым большинством».
Коварная тактика вменения предлагаемой меры. Ожидаемые перемены социальных порядков столь значительны, что, казалось бы, необходимо осмотрительное и неторопливое научно глубокое изучение, политическое взвешивание и общественное осмысление предлагаемой меры. Однако ничего подобного не происходит. Вместо постановки и решения вопросов принципиальной пригодности или непригодности проектируемой меры ставятся и решаются вопросы практического ряда: в каких размерах этот доход вводить, какие средства для его введения понадобятся, как перестроить источники государственных доходов для введения проектируемого дохода, какую реакцию тех или иных категорий населения можно ожидать при введении проектируемого дохода и т. п. То есть проблематика безусловного базового дохода обсуждается и изучается так, будто главный вопрос – о социальной целесообразности, о социальной допустимости и о практической пригодности проектируемого дохода – уже давно и окончательно решён. По существу используется та же деструктивная социальная технология, которая была применена Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком при проведении шоковых рыночных реформ в России в «лихие 1990-е» (См. Шоковые реформы; Реформы радикальные рыночные 1990-х годов в России). При этой технологии кардинальная проектируемая мера по сути дела произвольно и безальтернативно вменяется тому или иному народу или человечеству в целом, и допускается разве что «обратная реакция» по деталям её практического осуществления.
Тактика подмены понятий ради пропаганды и продвижения проектируемой меры. Пока что в мире имеется единственный случай надлежащего отношения к проблематике осознания и оценки целесообразности проектируемого безусловного базового дохода. Это проведение референдума в Швейцарии в 2016 г.
«Единственная попытка пока ввести безусловный базовый доход сразу для всех граждан в масштабе страны, на постоянной основе, обеспечивая с его помощью очень достойный уровень жизни, оказалась политически неудачной. В июне 2016 г. в Швейцарии прошел референдум, на котором населению был задан вопрос о введении базового дохода. Федеральное правительство страны провозгласило, что готово обеспечить внедрение безусловного базового дохода, который должен гарантировать всему населению достойный уровень жизни, возможность участия в общественной жизни. Речь шла о ежемесячной выплате в швейцарских франках, предлагаемая сумма которой составляла (в пересчете) 2170 евро на взрослого человека и 543 евро – на ребёнка. Федеральное правительство оценило стоимость проекта – порядка 200 млрд швейцарских франков в год, примерно 33 % ВВП. Часть этих расходов (55 млрд) покрывалась экономией на существующих социальных программах. Кроме того, предлагалось получить 25 млрд швейцарских франков от повышения НДС с 8 до 16 %. Из 46,9 % проголосовавшего населения 76,9 % отвергло это предложение. По оценке экспертов, одной из основных причин неудачного референдума в Швейцарии, оказалось опасение того, что базовый доход будет поощрять людей меньше работать, подорвет трудовую дисциплину и т. д. Эксперты связывают это с опасениями граждан, что безусловные выплаты приведут к тому, что многие оставят работу, особенно низкооплачиваемую; с преобладанием в мышлении большинства граждан идей трудовой этики, «общества труда»» (Журнал «Уровень жизни населения регионов России» № 3 (213) 2019. Стр. 16)
В России в сентябре 2020 председатель партии власти «Единая Россия» Д.А. Медведев призвал коллег по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в России гарантированного дохода граждан. Он обратил внимание на то, что данную идею необходимо «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения. Председатель партии добавил, что под гарантированным доходом подразумеваются регулярные выплаты фиксированной суммы, которая может обеспечить человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации, независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Прошли или нет такие обсуждения и коснулись ли они вопросов социальной целесообразности и социальной допустимости введения безусловного базового дохода – неизвестно.
Председатель «Единой России» невольно ввёл коллег в заблуждение, сообщив им, будто модели, подобные гарантированному доходу граждан, уже существуют в других государствах. На самом деле в разных государствах, в том числе и в России, в широких масштабах и регулярно предпринимаются попытки изобразить дело так, будто накапливается опыт постепенного перехода к безусловному базовому доходу. При этом используется подмена понятий.
Безусловный базовый доход конституируют два признака: 1) он безусловный, то есть даётся всем и каждому гражданину без каких-либо условий получения и расходования; 2) он достаточен для обеспечения минимально необходимого уровня потребления товаров, услуг и информации. Подмена понятий состоит в том, что если получение или использование какой-либо выплаты или льготы чем-либо обусловлено, то полученный таким образом доход объявляется условным базовым доходом. Подмена понятий состоит также в том, что если какая-то выплата и льгота недостаточна для обеспечения минимально необходимого уровня потребления, то она объявляется частичным базовым доходом. Условные и частичные доходы объявляются аналогами безусловного базового дохода и переходными к нему формами. Совершенно очевидно, что здесь налицо подлог, подмена понятий. Но на этой основе проводятся разнообразнейшие якобы эксперименты введения и тестирования безусловного базового дохода.
Никакого научного значения эти упражнения, разумеется, не имеют. Но они имеют реальное практическое значение: в обществе создаётся иллюзия, будто принципиально вопрос о введении безусловного базового дохода давно и окончательно решён и дело теперь только в практическом введении. Налицо та самая деструктивная технология вменения социально-экономических новаций.
Единственная идеология, которой соответствует внедрение безусловного базового дохода. Всем гуманистическим идеологиям свойственны неприязнь либо настороженность к проекту введения безусловного базового дохода. Дело в том, что этот проект содержит в себе угрозу дезавуирования или подрыва таких ключевых (базовых) гуманистических ценностей, как свобода и участие в общественно полезном и общественно организованном труде (См. Свобода; Ценность труда).
Идеологическая сущность и глубинное стратегическое предназначение безусловного базового дохода как стратегического социально-политического рычага может быть понято лишь в контексте той идеологии, которая прорабатывает перспективы капиталистической глобализации. Одна из острейших перспективных проблем такой глобализации – проблема «лишних людей», неспособность обеспечить полную, продуктивную и свободно избранную занятость при частнокапиталистической организации общественного воспроизводства. Эту проблему предполагается «решать» методом развития своего рода социальной резервации для значительной части населения (См. Социальной резервации теория).
«Логика развития капиталистической эксплуатации как общественной системы приводит капитал и его государство к необходимости отчасти смягчать социальную несправедливость. Делается это путём обеспечения для части «лишнего» населения особых условий существования, при которых исключение «лишних» из полноценного и полноправного участия в общественных делах фактически закрепляется, но потребности массы целенаправленно деформируются, сводятся к стандартизированным и удовлетворяются на уровне, вполне удовлетворяющем «лишних» людей. То есть возникает социальная группа довольных граждан, лишённых основных гражданских ценностей – участия в обществе в качестве субъектов реального исторического творчества.
В общем плане такое «гармоничное» распределение ролей в обществе обозначено в постановочно-концептуальном виде Ф.М. Достоевским в «легенде о Великом Инквизиторе» («Братья Карамазовы», книга «Pro и contra»). В плане практической политики эксплуататорских классов социальная резервация как новый тип исключения «лишних» из истории и из исторической перспективы приобрела значение в центрах капиталистической цивилизации в ХХ веке. Этот тип, скорее всего, будет взят капиталом на вооружение в XXI столетии, что, пожалуй, примирит большинство с глобализацией.
Этот новый тип – резервации сперва для десятков, затем для сотен миллионов, а если понадобится, то в конце концов – и для миллиардов. У людей в резервациях будет всё по их умело сформированным стандартным потребностям, всё – за исключением участия в реальной истории, то есть за исключением свободы.
Технологии, которые будут систематизированы и усовершенствованы в резервациях, уже нарабатываются.
…
В XIX в. выдвигалась идея «откупиться» от буржуазии и мирным путём исключить эксплуатацию из жизни общества. Сегодня роли переменились, и уже мировой капитал предлагает большинству мирового человечества уступить право самому делать историю за стандартное потребительское изобилие.
Всемирная резервация для большинства, с завидными для нищего и бездомного условиями потребления, – в обмен на свободу. Исключение большинства из реального исторического действия – в обмен на стандартное потребительское изобилие. Это суть социальной резервации. Это главная угроза XXI века.
Но это угроза для свободного человека. Для раба, которого не тяготит рабство, – это рай, это процветание, это – светлое будущее.
Такое будущее капитал смело может предлагать и уже предлагает». (Ракитский Б.В., Ракитская Г.Я. Глобализация капитализма как новейший этап социальной организации человечества (2001))
Проект безусловного базового дохода – одно из таких предложений, одна из технологий будушей глобальной социальной резервации.
Литература:Бобков В.Н., Долгушкин Н.К., Одинцова Е.В. Безусловный базовый доход: размышления о возможном влиянии на повышение уровня и качества жизни и устойчивости общества – Журнал «Уровень жизни населения регионов России» № 3 (213) 2019. Стр. 8-24; Ракитский Б.В., Ракитская Г.Я. Глобализация капитализма как новейший этап социальной организации человечества (2001) – В кн.: Ракитская Г.Я. Основные труды. Том второй. – М.: Школа трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской; ПРОБЕЛ-2000. 2017. Стр. 177-210.
БОЛЬШОЙ ТЕРРОР В СССР – преступление против человечности, геноцид советского народа, осуществлённый тоталитарным (фашистским) режимом И.В.Сталина в 1937-1938 гг. и оставшийся безнаказанным, не получившим государственного осуждения и надлежащего общественного осмысления. Как сам геноцид, так и его безнаказанность и непреодолённость в общественном сознании стали крайне неблагоприятными историческими факторами, существенно повлиявшими на развитие советского народа и продолжающими влиять на развитие народов, некогда объединённых в СССР.
Понятие «Большой террор» применяется историками для обозначения государственной кампании политических репрессий 1937-1938 гг. в СССР. Отечественное первоначальное наименование массовых репрессий 1937-1938 гг. – «ежовщина», по имени генерального комиссара госбезопасности, наркома НКВД СССР, председателя Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б), кандидата в члены Политбюро ЦК и секретаря ЦК ВКП(б) Н.И. Ежова. Термин «Большой террор» использован позже – в 1968 – британским историком Р. Конквестом.
Государственные массовые политические репрессии начались раньше 1937 г. и не закончились в 1938 г. Но в эти годы масштаб репрессий возрос многократно. Так, в 1936 было арестовано 131168 чел., в 1939 – 44731 чел., а за 1937-1938 – более 1575 тыс. чел. Осуждены 1344923 чел., из них внесудебными органами – 1210172 чел. Расстреляны 668305 чел.
Идеологом Большого террора, как и в целом идеологом тоталитарной контрреволюции в СССР был И.В. Сталин (См. СССР; Контрреволюция). Кампания массового политического репрессирования была спланирована и организована высшим руководством сталинского режима и лично И.В.Сталиным и проведена под их общим и оперативном контролем. Истинные цели кампании не разглашались. Скорее всего, «ежовщина» была органической составной частью сталинской контрреволюции, а её целью – превращение советского народа в толпу, лишённую нормальных социальных связей (социальная атомизация, социальная диссоциация) и охваченную одновременно паническим страхом и беспредельным фанатизмом (См. Тоталитаризм; Фашизм; Толпа; Страх; Фанатизм).
Первоначально кампания массового репрессирования была запланирована как трёхмесячная и охватывающая в общей сложности 258950 чел. Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 31 июля 1937 был утверждён оперативный приказ НКВД СССР № 00447. Ещё ранее Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело и утвердило персональный состав внесудебных репрессивных органов («троек») по областям СССР. Теперь состав «троек» был подтверждён, установлены так называемые лимиты (плановые цифры арестов) по областям. Были также определены контингенты репрессируемых: вернувшиеся из ссылки раскулаченные крестьяне («кулаки»); представители оппозиционных РКП(б) партий, существовавших до второй половины 1920-х годов; участники в прошлом Белого движения; «бывшие люди» (дворяне, служащие и военнослужащие при царском режиме и др.); служители религиозного культа; «уголовные элементы».
Одновременно готовились и в 1937-1938 осуществлены специальные репрессивные операции по отдельным национальным группам (немцы, поляки, «харбинцы», латыши, греки и некоторые др.).
Репрессивная кампания продлевалась руководством ВКП(б), расширялась и длилась до конца 1938 г.
В каждой области были организованы показательные процессы о вредительстве в народном хозяйстве с обязательным вынесением приговоров о расстрелах. Инсценировано несколько процессов над крупными государственными, партийными и военными деятелями.
Применялся бандитский садистский ритуал «круговой поруки»: людей заставляли на собраниях осуждать репрессированных «врагов народа», одобрять репрессии и тем самым делали их соответственными за преступления Большого террора.
Ничего общего с правосудием процедуры Большого террора не имели. Это были свойственные фашизму расправы. Кроме того, уже летом 1937 г. были официально санкционированы и рекомендованы пытки как метод ведения следствия. Не соблюдались элементарные права человека и в местах заключения.
Природа и историческое место Большого террора могут быть поняты лишь в контексте рассмотрения сталинского и последующих политических режимов в СССР как тоталитарных (фашистских), как результата глубоких деформаций общества, порождённых сталинской контрреволюцией (См. СССР; Контрреволюция; Деформации социализма).
И Большой террор и вся идеология и практика сталинизма заслуживают Трибунала наподобие Нюрнбергского трибунала. Призывы к такому трибуналу раздавались ещё в СССР, но не были услышаны и подхвачены ни общественным мнением, ни советским, ни российским государствами. Тем не менее, эти призывы не утратили своей актуальности, ибо преследования за преступления против человечества не имеют срока давности (См. Преступления против человечности).
Большой террор оказал сильнейшее вредоносное влияние на общественные процессы в нашем обществе. Это влияние в должной мере не осмыслено и не преодолено до сих пор. Публикуемые ниже тезисы «Мемориала» лишь в общих чертах и достаточно осторожно обозначают эту сторону проблематики Большого террора.
===============================================
ТОТ САМЫЙ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Тезисы Международного общества «Мемориал» к «юбилею» Большого террора
30 июля 2012
Семьдесят пять лет назад по решению высших партийных органов в СССР развернулась кровавая «чистка», длившаяся почти два года. В исторической публицистике эта репрессивная кампания нередко именуется Большим террором; в народе же её называют просто – «Тридцать Седьмой».
Коммунистическая диктатура всегда – и до, и после 1937 года – сопровождалась политическими репрессиями. Однако именно Тридцать Седьмой стал в памяти людей зловещим символом системы массовых убийств, организуемых и проводимых государственной властью. По-видимому, это случилось из-за того, что Большому террору были присущи из ряда вон выходящие черты, предопределяющие его особое место в истории и то огромное влияние, которое он оказал – и продолжает оказывать – на судьбы нашей страны.
Тридцать Седьмой – это гигантский масштаб репрессий, охвативших все регионы и все без исключения слои общества – от высшего руководства страны до бесконечно далёких от политики крестьян и рабочих. В течение 1937-1938 гг. по политическим обвинениям было арестовано 1,7 миллиона человек. Вместе с жертвами депортаций и осуждёнными «социально вредными элементами» число репрессированных переваливает за 2 миллиона.
Это – невероятная жестокость приговоров: более 700 тысяч арестованных были казнены.
Это – беспрецедентная плановость террористических «спецопераций». Вся кампания была тщательно продумана заранее высшим руководством СССР и проходила под его постоянным контролем. В секретных приказах НКВД определялись сроки проведения отдельных операций, группы и категории населения, подлежащие «чистке», а также «лимиты» – плановые цифры арестов и расстрелов по каждому региону. Любые изменения, любые «инициативы снизу» должны были согласовываться с Москвой и получать её одобрение.
Но для основной массы населения, незнакомой с содержанием приказов, логика арестов казалась загадочной и необъяснимой, не вяжущейся со здравым смыслом. В глазах современников Большой террор выглядел гигантской лотереей. Почти мистическая непостижимость происходящего наводила особенный ужас и порождала у миллионов людей неуверенность в собственной судьбе.
Репрессии основательно затронули, в частности, представителей новых советских элит – политической, военной, хозяйственной. Расправа с людьми, имена которых были известны всей стране (именно о них в первую очередь сообщали газеты) и в лояльности которых не было никаких причин сомневаться, увеличивали панику и усугубляли массовый психоз. Впоследствии даже родился миф о том, что Большой террор будто бы был направлен исключительно против старых большевиков и партийно-государственной верхушки. На самом деле подавляющее большинство арестованных и расстрелянных были простыми советскими гражданами, беспартийными и ни к каким элитам не принадлежавшими.
Тридцать Седьмой – это неизвестные мировой истории масштабы фальсификаций обвинений. В 1937-1938 гг. вероятность ареста определялась главным образом принадлежностью к какой-либо категории населения, указанной в одном из «оперативных приказов» НКВД, или связями – служебными, родственными, дружескими – с людьми, арестованными ранее. Формулирование индивидуальной «вины» было заботой следователей. Поэтому сотням и сотням тысяч арестованных предъявлялись фантастические обвинения в «контрреволюционных заговорах», «шпионаже», «подготовке к террористическим актам», «диверсиях» и т. п.
Тридцать Седьмой – это возрождение в ХХ веке норм средневекового инквизиционного процесса, со всей его традиционной атрибутикой: заочностью (в подавляющем большинстве случаев) квазисудебной процедуры, отсутствием защиты, фактическим объединением в рамках одного ведомства ролей следователя, обвинителя, судьи и палача. Вновь, как во времена инквизиции, главным доказательством стало ритуальное «признание своей вины» самим подследственным. Стремление добиться такого признания в сочетании с произвольностью и фантастичностью обвинений привели к массовому применению пыток; летом 1937-го пытки были официально санкционированы и рекомендованы как метод ведения следствия (см. «Новую газету», № 83, вкладка «Правда ГУЛАГа»).
Тридцать Седьмой – это чрезвычайный и закрытый характер судопроизводства. Это тайна, окутавшая отправление «правосудия», это непроницаемая секретность вокруг расстрельных полигонов и мест захоронения казнённых. Это систематическая многолетняя официальная ложь о судьбах расстрелянных: сначала – о мифических «лагерях без права переписки», затем – о кончине, наступившей будто бы от болезни, с указанием фальшивых даты и места смерти.
Тридцать Седьмой – это круговая порука, которой сталинское руководство старалось повязать весь народ. По всей стране проходили собрания, на которых людей заставляли бурно аплодировать публичной лжи о разоблачённых и обезвреженных «врагах народа». Детей заставляли отрекаться от арестованных родителей, жён – от мужей.
Это миллионы разбитых семей. Это зловещая аббревиатура ЧСИР – «член семьи изменника Родины», которая сама по себе явилась приговором к заключению в специальные лагеря для 20 тысяч вдов, чьи мужья были казнены по решению Военной коллегии Верховного суда. Это сотни тысяч сирот Тридцать Седьмого – людей с украденным детством и изломанной юностью.
Это окончательная девальвация ценности человеческой жизни и свободы. Это культ чекизма, романтизация насилия, обожествление идола государства. Это эпоха полного смешения в народном сознании всех правовых понятий.
Наконец, Тридцать Седьмой – это фантастическое сочетание вакханалии террора с безудержной пропагандистской кампанией, восхваляющей самую совершенную в мире советскую демократию, самую демократическую в мире советскую Конституцию, великие свершения и трудовые подвиги советского народа. Именно в 1037 году окончательно сформировалась характерная черта советского общества – двоемыслие, следствие раздвоения реальности, навязанного пропагандой общественному и индивидуальному сознанию.
И сейчас, 75 лет спустя, в стереотипах общественной жизни и государственной политики России и других стран, возникших на развалинах СССР, явственно различимо пагубное влияние как самой катастрофы 1937-1938 годов, так и всей той системы государственного насилия, символом и квинтэссенцией которого стали эти годы. Эта катастрофа вошла в массовое и индивидуальное подсознание, покалечило психологию людей, обострила застарелые болезни нашего менталитета, унаследованные ещё от Российской империи, породила новые опасные комплексы.
Ощущение ничтожности человеческой жизни и свободы перед истуканом Власти – это непреодолённый опыт Большого террора.
Привычка к «управляемому правосудию», правоохранительные органы, подчиняющие свою деятельность не норме закона, а велениям начальства, – это очевидное наследие Большого террора.
Имитация демократического процесса при одновременном выхолащивании основных демократических институций и открытом пренебрежении правами и свободами человека, нарушения Конституции, совершаемые под аккомпанемент клятв в незыблемой верности конституционному порядку, – это общественная модель, которая впервые была успешно опробована именно в период Большого террора.
Рефлекторная неприязнь сегодняшнего государственного аппарата к независимой общественной активности, непрекращающиеся попытки поставить её под жёсткий государственный контроль – это тоже итог Большого террора, когда большевистский режим поставил последнюю точку в многолетней истории своей борьбы с гражданским обществом. К 1937 году все коллективные формы общественной жизни в СССР – культурной, научной, религиозной, социальной и т. п., не говоря уже о политической – были ликвидированы или подменены имитациями, муляжами; после этого людей можно было уничтожать поодиночке, заодно искореняя из общественного сознания представления о независимости, гражданской ответственности и человеческой солидарности.
Воскрешение в современной российской политике старой концепции «враждебного окружения» – идеологической базы и пропагандистского обеспечения Большого террора, подозрительность и враждебность ко всему зарубежному, истерический поиск «врагов» за рубежом и «пятой колонны» внутри страны и другие сталинские идеологические шаблоны, обретающие второе рождение в новом политическом контексте – всё это свидетельства не преодолённого наследия Тридцать Седьмого в нашей политической и общественной жизни.
Лёгкость, с которой в нашем обществе возникают и расцветают национализм и ксенофобия, несомненно унаследована нами в том числе и от «национальных спецопераций» 1937-1938 годов, и от депортации в годы войны целых народов, обвинённых в предательстве, и от «борьбы с космополитизмом», «дела врачей» и сопутствующих всему этому пропагандистских кампаний.
Интеллектуальный конформизм, боязнь всякой «инакости», отсутствие привычки к свободному и независимому мышлению, податливость ко лжи – тоже во многом результат Большого террора.
Безудержный цинизм – оборотная сторона двоемыслия, волчья лагерная мораль («Умри ты сегодня, а я завтра»), утрата традиционных семейных ценностей – и этими нашими бедами мы в значительной мере обязаны школе Большого террора, школе ГУЛАГа.
Катастрофическая разобщённость людей, стадность, подменившая коллективизм, острый дефицит человеческой солидарности – всё это результат репрессий, депортаций, насильственных переселений, результат Большого террора, целью которого и было раздробление общества на атомы, превращение народа в население, в толпу, которой легко и просто управлять.
Разумеется, сегодня наследие Большого террора не воплощается и вряд ли может воплотиться в массовые аресты, мы живём в другую эпоху. Но это наследие, не осмысленное обществом и, стало быть, не преодолённое им, легко может стать «скелетом в шкафу», проклятием нынешнего и будущих поколений, прорывающимся наружу то государственной манией величия, то вспышками шпиономании, то рецидивами репрессивной политики.
Что требуется сделать для осмысления и преодоления разрушительного опыта Тридцать Седьмого?
Последние десятилетия показали, что необходимо публичное рассмотрение политического террора советского народа с правовых позиций. Террористической политике тогдашних руководителей страны, и прежде всего генерального идеолога и верховного организатора террора Иосифа Сталина, конкретным преступлениям, ими совершённым, необходимо дать ясную юридическую оценку. Только такая оценка может стать краеугольным камнем правового и исторического сознания, фундаментом для дальнейшей работы с прошлым. В противном случае отношение общества к событиям эпохи террора неизбежно будет колебаться в зависимости от изменений политической конъюнктуры, а призрак сталинизма – периодически воскресать и оборачиваться то бюстами диктатора на улицах наших городов, то рецидивами сталинской политической практики в нашей жизни.
Вероятно, для проведения полноценного разбирательства следовало бы создать специальный судебный орган – указывать на прецеденты в мировой юридической практике излишне.