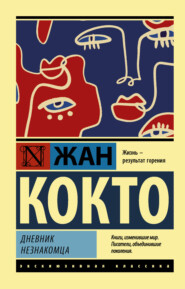скачать книгу бесплатно
P. S. – Чувство ответственности. Очень остро проявляется у некоторых детей, на которых обрушивается презрение семьи. Эти дети винят себя в проступках, которых не совершали (что надо еще доказать. Ответственность иногда может быть неосознанной).
Нередки случаи, когда дети считают себя повинными в явлениях, смущающих покой домов, в которых водятся привидения. Нередко бывает также, что явления эти происходят от одного желания детей удивить, – в том и состоит ребячество. От таких детей, вероятно, исходит сила, совершающая нечто, что их компрометирует, а затем вынуждает признаваться родным и полиции в том, чего у них и на уме-то не было. Они желают сыграть свою роль как в видимом, так и в невидимом.
Тьма этих детей еще дремлет. Наша – бурлит. Она в состоянии порождать настоящие опухоли, чудовищные беременности. Она может оплодотворить нас такими существами, какие появляются разве что при изгнании бесов, – и об этом следующая глава.
О рождении поэмы
Но ангел, чей удар поверг его ниц, это он сам.
Сартр. Святой Жене
Только что я оказался опытным полем для одного из четвертований а-ля Равальак, когда несколько лошадей рвут человека на части, – этому испытанию подвергают нас противоборствующие силы, для которых мы являемся и Гревской площадью. Решив проанализировать рождение одной из моих поэм, «Ангела Эртебиза», как раз подходящего, как мне кажется, для того, чтобы проследить соотношение сознательного и бессознательного, видимого и невидимого, – я обнаружил, что не могу писать. Слова высыхали, путались, толкались, налезали друг на друга, бунтовали – точно больные клетки. Они принимали под моим пером такие позы, что никак не могли соединиться друг с другом и организовать фразу. Я упорствовал, полагая, что мной движет та самая мнимая прозорливость, которую я противопоставляю внутренней тьме. Я уже начал думать, что никогда не освобожусь от нее, что с годами мой проводник заржавел, – а это было бы хуже всего, потому что независимо от того, свободен я или нет, я уже не смог бы взяться ни за какую работу. Я все стирал, рвал, начинал сначала. И всякий раз оказывался в том же тупике. Всякий раз спотыкался о те же препятствия.
Я уже совсем было решил отказаться, когда нашел на каком-то столе мою книгу «Опиум». Я открыл ее наугад (если позволительно так выразиться) и прочел абзац, объяснивший мне мою беспомощность. Меня подводила память, она путала даты, пережимала пружины, корежила механизм. Глубинная память восстала против этих ошибок, а я этого даже не заметил.
Искаженная перспектива выталкивала одни обстоятельства вперед других, в то время как в действительности они располагались в обратном порядке. Таким образом, наши давние поступки предстают точно в перевернутом телескопе, их неверная оркестровка является результатом одной-единственной фальшивой ноты, одного-единственного лжесвидетельства, произнесенного тем, кто пытается себя обелить.
* * *
До поэмы «Ангел Эртебиз» символ «ангела» в моих произведениях никак не был связан с какими бы то ни было религиозными образами, несмотря на то, что грек Эль-Греко их обработал, наделил особым смыслом и тем навлек на себя гнев испанской инквизиции.
Этот образ напоминает, пожалуй, картину, которую экипаж сверхтяжелого бомбардировщика № 42.7353 наблюдал, сбросив на землю первую атомную бомбу. Летчики описывали пурпурное зарево и смерч невероятных оттенков. Им не хватало слов. То, что они увидели, так и осталось внутри них.
* * *
Сходство между словами «ангел» (ange) и «угол» (angle), легкое преобразование «ange» в «angle» путем прибавления «l» (или «aile», крыла) – один из курьезов французского языка, если только в подобных вещах могут быть курьезы. В иврите – я знал это – нет никакого курьеза, «ангел» и «угол» в нем – синонимы.
Падение ангелов символизирует в Библии сглаживание углов, то есть вполне нормальное образование классической сферы. Лишенная своей геометрической души, образованной переплетением гипотенуз и прямых углов, сфера уже не покоится на точках, заставлявших ее лучиться.
Я знал также, что нельзя допустить, чтобы в нас изгладилась наша геометрическая сущность, что падение наших ангелов – или наших углов – это опасность, грозящая тем, кто слишком держится за землю.
* * *
В Книге Бытия пропущен эпизод, связанный с падением ангелов. Эти фантастические, повергающие в смятение существа уестествили дочерей человеческих, и от их союза родились великаны – «gеants». Соответственно, «gеants» и «anges», великаны и ангелы, в еврейском сознании смешиваются. Гюстав Доре великолепно изобразил в глубине диких ущелий нагромождение этих опрокинутых навзничь мускулистых тел.
Откуда возник видимый образ ангела? Как это нечеловеческое существо обрело человеческий облик? Вероятно, человек пытался осмыслить загадочные силы, очеловечить некое абстрактное присутствие – чтобы хоть отдаленно узнать в нем себя и перестать его бояться.
Явления природы – молния, затмения, потоп – уже не кажутся роковыми, когда являются частью подвластного Богу видимого войска.
То, что составляет это войско, обретая сходство с человеком, утрачивает непостижимую для сознания беспредметность, эту безымянность, пугающую в темноте детей и заставляющую их холодеть от ужаса, пока не зажжется лампа.
Именно это чувство – безо всякой, даже отдаленной связи с Апокалипсисом – породило греческих богов. Каждый бог узаконивал какой-нибудь порок или возвеличивал добродетель. Боги курсировали между небом и землей, между Олимпом и Афинами, как между этажами здания. Их присутствие успокаивало. Ангелы же, судя по всему, были воплощением тревоги.
Утонченные, жестокие чудовища, в высшей степени самцы и вместе с тем андрогины: летающие углы; так я представлял себе ангелов до того, как убедился, что их невидимая сущность может принимать форму поэмы и становиться зримой без риска быть увиденной.
* * *
Моя пьеса «Орфей» изначально была задумана как история Пречистой Девы и Иосифа: явление ангела (подмастерья плотника) порождает сплетни, необъяснимая беременность Марии настраивает против нее назаретян и вынуждает их с Иосифом покинуть деревню.
Интрига заключала в себе такое количество несовпадений, что я отказался от замысла. За основу нового сюжета я взял историю Орфея, в которой необъяснимое рождение стихов заменяло рождение Сына Божьего.
Тут тоже должен был сыграть роль ангел – в обличье стекольщика. Но этот акт я написал значительно позже, в Вильфранше, в отеле «Welcome» – где я почувствовал себя достаточно свободным, чтобы одеть его в синий комбинезон и вместо крыльев приделать ему на спину стекла. А еще несколько лет спустя он и вовсе перестал быть ангелом и в моем фильме превратился уже в какого-то молодого мертвеца, шофера принцессы. (Так что журналисты ошибаются, называя его ангелом.)
Если я забегаю вперед, то лишь с целью объяснить, что ангел как персонаж давно и безучастно жил во мне, не причиняя никаких неудобств, вплоть до рождения поэмы, а когда поэма была окончена, я увидел, что он безобиден. В пьесе и фильме я сохранил только его имя. Воплотившись в поэму, он уже не требовал от меня ни заботы, ни внимания.
Вот отрывок из «Опиума», раскрывший мне глаза на то, почему у меня не получалась эта глава. Написанное относится к 1928 году. Я полагал, что к 1930-му.
«Как-то я отправился к Пикассо на улицу Ла Боэси и, очутившись в лифте, вдруг почувствовал, что становлюсь все выше и выше, одновременно с чем-то ужасным рядом со мной, да к тому же еще и бессмертным. Чей-то голос крикнул мне: „Мое имя написано на табличке“. Лифт вздрогнул, я очнулся и прочел на медной табличке, вделанной в ручку лифта: „Лифт Эртебиза“.
У Пикассо, помнится, мы разговорились о чудесах. Пикассо заявил, что вообще всё чудо, что не раствориться в собственной ванне – тоже чудо».
Сейчас я сознаю, как сильно тогда подействовала на меня эта фраза. В ней мне увиделась целая пьеса, в которой чудеса не иссякают, соединяют в себе комедию и трагедию и завораживают не меньше, чем взрослый мир завораживает ребенка.
Я и думать забыл об эпизоде в лифте. Как вдруг все переменилось. Идея пьесы развалилась. Засыпая вечером, я внезапно просыпался среди ночи и уже не мог уснуть. Днем я тонул в полудреме, барахтался в вязком месиве невнятных снов. Это нарушение ритма сделалось ужасным. Мне и в голову не приходило, что внутри меня живет ангел, и только когда имя Эртебиз стало наваждением, я это осознал.
Я слышал это имя, слышал, не слыша его, слышал его форму, если можно так выразиться, слышал там, где человек не может заткнуть уши, я слышал, как тишина кричит его что есть мочи: это имя преследовало меня – и я наконец вспомнил крик в лифте: «Мое имя написано на табличке» – и я назвал ангела по имени. А он уже изнемогал от моей глупости, ведь он назвал себя, а я все не мог повторить. Назвав его по имени, я надеялся, что он оставит меня в покое. Как бы не так. Фантастическое существо сделалось невыносимым. Оно заполнило меня всего, расположилось во мне, стало вертеться и толкаться, как ребенок в материнской утробе. Я никому не мог о нем рассказать. Я должен был сносить эту пытку. А ангел мучил меня не переставая, и мне даже пришлось употреблять опиум в надежде его перехитрить и утихомирить. Но хитрость моя пришлась ему не по вкусу, и он дорого заставил меня заплатить за нее.
Сегодня, нежась на побережье, я с трудом вспоминаю подробности того времени и омерзительные знаки его присутствия во мне. Мы обладаем спасительным свойством забывать дурное. Не дремлет только наша глубинная память, поэтому нам легче вспомнить эпизоды нашего детства, чем недавно совершенные поступки. Воскрешая эту подспудную память, я прихожу в состояние, не понятное тем, кто не разделяет наше предназначение. И вот, постепенно, я, кичившийся своей свободой и независимостью от этого предназначения, оказываюсь его послушным исполнителем, и перо мое начинает свой бег. Ничто меня больше не сдерживает. Я снова живу на улице Анжу. Моя мать жива. На ее лице я читаю следы моих бед. Она ни о чем не спрашивает. Просто страдает. Я тоже страдаю. А ангелу наплевать. Он беснуется почем зря. Я готов услышать совет: «Обратитесь к экзорцисту, в вас вселился бес». Не бес – ангел. Существо, ищущее воплощения, одно из тех, что принадлежат к другому миру и кому вход в наш мир заказан, – но любопытство влечет их к нам, и они на все готовы, лишь бы остаться здесь.
* * *
Ангела нимало не заботило мое возмущение. Я был для него лишь проводником, он использовал меня. Он готовился к выходу. Мои приступы все учащались, пока не превратились в один сплошной приступ, сравнимый с родовыми схватками. Это были чудовищные роды, не смягченные материнским инстинктом и сопровождающим его доверием. Представьте себе партеногенез – два существа в едином теле, разрешающемся от бремени. Наконец, после одной жуткой ночи, когда я уже помышлял о самоубийстве, исторжение состоялось – это было на улице Анжу. Оно продолжалось семь дней, и бесцеремонность моего персонажа перешла все границы: он принуждал меня писать вопреки моей воле.
* * *
То, что из меня исторгалось и что я записывал на листках какого-то подобия альбома, не имело ничего общего ни с леденящим холодом Малларме, ни с золотыми молниями Рембо, ни с автоматическим письмом, ни с чем-либо другим, мне знакомым. Фрагменты его перемешались, подобно шахматным фигурам, складывались в особый ритм, будто состоящий из осколков александрийского стиха. Ломая ось храма, ритм диктовал размеры колонн, аркад, карнизов, волют, архитравов, ошибался в расчетах, начинал все сызнова. Матовое стекло покрывалось инеем, сплетались линии, прямоугольные треугольники, диаметры и гипотенузы. Сложение, умножение, деление. Вся эта алгебра, ища человеческого воплощения, питалась моими воспоминаниями. Злодей стискивал мне затылок, заставлял склоняться над листом, подстраиваться под ритм его наступлений и передышек, покорно исполнять то, что он требовал, изливаясь через мои чернила в поэму. Я тешил себя надеждой, что он в конце концов избавит меня от своего назойливого присутствия, переселится вовне, отделится от моего организма. Для чего – меня это не интересовало. Главное было покорно пережить его превращение. Это даже нельзя было назвать помощью с моей стороны, потому что он меня как будто презирал и помощью моей гнушался. Я не мог ни спать, ни жить. Надо было скорее друг от друга избавиться, но мое избавление нимало его не заботило.
На седьмой день (было семь вечера) ангел Эртебиз стал поэмой и освободил меня. В оцепенении я смотрел на то, во что он воплотился. Его лицо казалось мне далеким, надменным, совершенно безразличным ко всему, что им не являлось. Чудовище, упоенное собой. Глыба невидимости.
Эта невидимость, составленная из огнедышащих углов, этот корабль, стиснутый льдами, этот айсберг, окруженный водой, навеки останется невидимым. Так решил ангел Эртебиз. Его земное воплощение по-разному воспринимается им и нами. На эту тему иногда рассуждают или пишут. Тогда он прячется во всевозможные толкования. У него, как говорится, много чего за душой. Он захотел попасть в наш мир. Пусть уж остается.
Теперь я смотрю на него без злобы, но быстро отворачиваюсь. Меня смущают его большие, пристально глядящие, но не видящие меня глаза.
Мне кажется невероятным, что эта чуждая мне поэма (не чуждая только моему естеству) рассказывает обо мне и что ангел заставил меня говорить о нем так, как если бы я давно его знал, – да еще и от первого лица. Значит, без моего участия это существо не обрело бы форму и, подобно джину из восточных сказок, не могло бы жить нигде, кроме как в сосуде моего тела. Для абстрактного существа есть один-единственный способ, оставаясь невидимым, сделаться конкретным: заключить с нами брачный контракт, по которому большую часть видимости получит оно, а меньшую, мизерную – мы. Да еще полную меру порицания в придачу.
* * *
Освобожденный, опустошенный, ослабший, я поселился в Вильфранше. Перед тем помирился со Стравинским: мы с ним оказались в одном спальном вагоне. Мы выяснили отношения, сухие и натянутые со времен «Петуха и Арлекина». Он попросил меня написать текст к оратории «Oedipus Rex».
Стравинский латинизировался настолько, что захотел текст к оратории на латыни. В этом деле мне помог преподобный отец Даньелу, что напомнило мне школьные годы.
Вместе с женой и сыновьями Стравинский жил в Мон-Бороне. Помню, мы совершили прелестное путешествие в горы. Стоял февраль, и склоны казались розовыми от цветущих деревьев. Стравинский взял с собой сына Федора. Наш шофер изъяснялся, как оракул, подняв палец к небу. Мы окрестили его Тиресием.
Тогда я как раз написал «Орфея» и прочел его на вилле Мон-Борон в сентябре 1925-го. Стравинский делал новую оркестровку «Весны священной» и сочинял «Oedipus Rex». Он хотел, чтобы музыка вышла курчавая, как борода Зевса.
По мере написания я приносил ему тексты. Я был молод. Радовался солнцу, рыбной ловле, эскадрам. Когда мы заканчивали работать, уже ночью, не чувствуя усталости, я возвращался пешком в Вильфранш. Эртебиз больше не мучил меня. Ангел теперь был только один: ангел театра.
Тем не менее, в «Опиуме» я отметил любопытные совпадения, сопровождавшие «Орфея» в постановке Питоева в июне 1926 года. Эти совпадения выстраивались в единую цепь и в Мексике приобрели угрожающий характер. Еще раз цитирую «Опиум»: «В Мексике давали „Орфея“, по-испански. Во время сцены с вакханками началось землетрясение, театр рухнул, несколько человек пострадали. Потом театр восстановили и снова дали „Орфея“. Неожиданно появился режиссер и объявил, что спектакль продолжаться не может. Актер, исполнявший роль Орфея, не мог выйти из зазеркалья. Он умер за сценой».
* * *
Пьеса была написана в 1925-м, а в 1926-м, после моего возвращения в Париж, ее должны были поставить на сцене. Второе чтение происходило на проспекте Ламбаля, у Жана Гюго. После чтения, надевая в прихожей пальто, Поль Моран – я до сих пор слышу его слова – сказал мне: «Веселенькую ты открыл дверь. Но ничего веселого за ней нет. Там совсем не до смеха».
На следующий день я обедал у Пикассо на улице Ла Боэси. Снова оказавшись в лифте, я взглянул на медную табличку. На ней значилось: «Отис-Пифр». Эртебиз исчез.
* * *
P. S. Для консультации в случае колдовства и злых козней (как то: битье посуды или каменный дождь), которые в некоторых домах, похоже, являются результатом действия таинственных и глупых сил, существует замечательная книга Эмиля Тизане «По следам незнакомца». Это первое документально подтвержденное исследование подобных явлений, пока еще не объяснимых и родственных тем, которые нас интересуют.
Что делает Пикассо, как не переносит предметы из одного значения в другое и не бьет посуду? Но его заколдованный дом полиция обходит. Изучать его – дело художественной критики.
Впрочем, в 1952 году, на выставке бытовой техники, такого рода явления потеряли значительную долю своей таинственности. Тарелочка с пирожными приподнимается над столом, перемещается и останавливается перед кем-нибудь из сидящих. Надо заметить, что содержимое тарелки занимало зрителей больше, чем летающая тарелка сама по себе. Только один ребенок смотрел на нее с опаской и не решался к ней прикоснуться – ведь могло так оказаться, что летала она по его воле.
Эти явления лежат порой в основе процессов над поэтами. На процессе Жанны д’Арк штаб заручился поддержкой епископа, который, отбросив возможность чуда, выдвинул версию колдовства и потусторонней силы. Жанна в большей степени жертва этого обвинения, чем внешнеполитических интриг.
Редкие явления, о которых пишет Тизане, влекут за собой массу расследований, несправедливых наказаний и загородных убийств. Трудно поймать преступника, который действует окольными путями и творит, что ему взбредет в голову. Все начинают подозревать друг друга и, так как невозможно свалить вину на что-то, ее сваливают на кого-то.
О преступной невинности
Я бы предпочел услышать, что вы признаете себя виновным. За виновного хоть знаешь, как взяться. Невинный ускользает. От него одна только анархия.
1-я версия сцены с Кардиналом и Гансом, акт 2, «Вакх»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вы обвиняетесь в том, что невиновны. Признаете ли вы себя виновным?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Признаю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Совершили ли вы какое-нибудь преступление, оговоренное законом?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Я никогда не творил добра.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Это не облегчит вашей участи. Добро не судят. Оно не относится к области юриспруденции. Правосудию интересно только зло, да и то, повторяю, лишь в определенной форме. Итак, по вашему собственному признанию, вы творили зло, хотя и неявно, но это не умаляет вашей вины. Не ищите оправданий! У нас есть свидетели и доказательства. Повинны ли вы в убийстве, краже, клятвопреступлении?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Нет, но…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вот вы себя и выдали.
«Газет де Трибюно»
В 1940-м, в Эксе, в период эвакуации, я познакомился с одной молодой четой, которая близко знала семью, давшую мне приют. Все они были врачами. Доктор М., в доме которого я устроился, жил в городе. Доктор Ф. с женой – в маленьком домике у дороги, позади которого полоса фруктовых садов и огородов постепенно переходила в поля. Когда-то дом принадлежал родителям молодой женщины, а те унаследовали его от своих родителей и так далее. История уходила так далеко в глубь веков, что дом, учитывая наше ненадежное время, воплощал собой идею непрерывности, которой трудно найти аналог.
Нам часто случалось общаться и ужинать друг у друга в гостях.
Молодая женщина вызывала во мне любопытство. От малейшего дуновения ее красота и веселость меркли. Но, так же быстро, она приходила в себя. Казалось, она издалека следит за тем, как к ней приближается губительная волна, которой она страшится и которую пытается остановить. В эти минуты все ее поведение, движения, взгляд выдавали затравленность существа, которому угрожает вполне определенная опасность. Она переставала слушать, не отвечала на вопросы. В мгновение ока она старела, и тогда муж не спускал с нее глаз, а мы послушно замолкали вместе с ним. Неловкость делалась невыносимой. Нам приходилось ждать, пока губительные волны сгустятся, задушат свою жертву, ослабнут и уберутся восвояси.
Приступ заканчивался, и все происходило в обратном порядке. К молодой женщине возвращалось очарование. Муж снова начинал улыбаться и говорить. Смятение уступало место хорошему настроению, как будто не произошло ничего особенного.
Однажды я заговорил о нашей молодой знакомой с доктором М. и спросил его, была ли она излишне впечатлительной или когда-то пережила потрясение, дававшее теперь такие странные симптомы. Может быть, она стала жертвой насилия или была когда-то очень сильно напугана.
Доктор ответил, что, вероятно, так оно и есть, что он знает лишь одну историю, правда, на его взгляд, давнишнюю и мало что доказывающую. Но, добавил он, все возможно. Нам мало известно о том, что происходит в глубинах человеческого тела. Тут нужен психоаналитик. Однако по причинам, о которых вы сами можете догадываться, мадам Ф. отказывается к нему обращаться. Добавьте к этому, что у нее нет детей, что дважды у нее был выкидыш и мысль о новой беременности повергает ее в ужас, отнюдь не способствующий улучшению ее состояния.
Вот история, которую рассказал мне доктор.
Молодая женщина была в семье единственным ребенком. Отец с матерью исполняли малейшие ее капризы. Когда ей было пять лет, мать снова забеременела. Срок родов приближался и надо было как-то предупредить девочку, что у нее появится братик или сестричка.
Вы знаете, что – увы! – детей обычно обманывают, рассказывая им всякие небылицы про то, как они появились на свет. На мой взгляд, это нелепо. Мои-то знают, что появились на свет из материнской утробы. От этого они только больше любят свою мать, да и в школе не рискуют наслушаться всякого вздора от своих товарищей. Но девочку, о которой мы говорим, окружала ложь, и произошедшая вскоре трагедия была следствием этой лжи.
Отец с матерью ломали голову, как подготовить на редкость ревнивого ребенка к тому, что скоро в доме появится еще одно живое существо, и с этим существом ей придется делить мир, в котором она царит безраздельно. До этого девочка не желала терпеть даже собак и кошек, которых ей дарили, она боялась, что родители к ним привяжутся и станут меньше любить ее.
С тысячью предосторожностей ей сообщили, что небо в скором времени пошлет им в подарок маленького мальчика или маленькую девочку, пока точно не известно, кого именно, что небесный подарок будет доставлен со дня на день и что надо радоваться этому событию.
Родители опасались слез. Они ошиблись. Девочка не проронила ни слезинки. Взгляд ее сделался каменным. Она испугала близких не криками, а немотой взрослого человека, которому сообщили, что он разорен.
Нет ничего более непроницаемого, чем ребенок, упорствующий в своей обиде. Напрасно родители ласкали ее, целовали, говорили нежные слова, пытаясь смягчить неприятную новость. Все их старания выглядели смешными перед этой каменной стеной.
Вплоть до начала родов девочка держалась неприступно. Потом родители занялись хлопотами и оставили ее в покое, – тогда она заперлась в своей комнате, чтобы в одиночестве лелеять обиду.
Молодая женщина произвела на свет мертвого ребенка. Муж пытался ее успокоить, ссылаясь на отчаянье их дочурки: они объявят ей, что отказались от подарка, чтобы ее не огорчать, и она вновь начнет радоваться жизни. Но их хитрость не удалась. Малышка не только не изменила своего поведения, но к тому же еще заболела. Горячка и бред свидетельствовали о том, что у нее воспаление легких. Доктор М. поинтересовался, не могла ли она простудиться, но доктор Ф. затруднялся ответить. Он рассказал своему коллеге о потрясении, которое пережила девочка. Доктор М. заметил, что потрясение могло спровоцировать нервный приступ, но никак не пневмонию, которую надо было лечить подобающим образом. Девочку стали лечить. Ее спасли. Когда за жизнь ее можно было уже не опасаться, все запуталось еще больше. Никакими ласками родителям не удавалось растопить лед ее молчания. Полного выздоровления не наступало. Обычную болезнь сменил таинственный недуг, продолжавший свое разрушительное действие.
Тогда доктор М., вконец отчаявшись, предложил обратиться к психоаналитику. «Специалист в этой области, – объяснил он, – может проникнуть в область, перед которой наша наука бессильна. Профессор Г. – мой племянник. Надо, чтобы он стал вашим племянником, – во всяком случае, чтобы малышка так думала, – и поселился бы в вашем доме. Я достаточно хорошо его знаю, чтобы не сомневаться в его согласии».
Психоаналитик как раз собирался на отдых. Дядя убедил его провести отпуск в Эксе, у него в доме. Каждый день психоаналитик являлся к молодой чете, задавал вопросы и в конце концов сдружился с ними. Малышка первое время дичилась. Но мало-помалу привыкла, ей стало нравиться, что кто-то из взрослых обращается с ней не как с маленькой, а как с равной. Она стала называть Г. своим дядей.
После четырех недель ежедневных встреч девочка наконец разговорилась, и мнимый дядя смог с ней побеседовать.
Однажды они гуляли в дальнем конце сада, вдали от родителей и слуг. Безо всяких предисловий, со спокойствием человека, признающего себя виновным перед лицом судьи, девочка вдруг раскрыла свою тайну, которая, должно быть, душила ее и рвалась наружу.
Сопоставим то, что нам известно, с тем, что она рассказала.
* * *
Случилось это в ночь, когда происходили роды. Накануне выпал снег. Малышка не спала. Она прислушивалась. Она знала, что скоро – может быть, на рассвете – подарок прибудет по назначению. Она знала также, что подобные вещи сопровождаются всеобщей суетой и таинственностью. Нельзя было терять ни минуты.
Черпая силы в своем внутреннем знании, она встала, не зажигая лампы, вышла из комнаты, которая находилась на втором этаже, и, приподнимая длинную рубашку, спустилась по деревянным ступеням. Некоторые половицы скрипели: тогда она замирала и слушала, как бьется ее сердце. Где-то открылась дверь. Девочка прижалась к канату, служившему перилами. Она чувствовала на шее его колючее прикосновение.
Незнакомка в платье и белом чепце пересекла прямоугольник света, падавшего из открытой двери на плиты вестибюля. Она прошла в будуар, смежный со спальней родителей, и закрыла за собой дверь. Другая дверь оставалась открытой. Она вела в неудобную ванную комнату. Мать там причесывалась, пудрилась, пришпиливала шляпы и вуалетки.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: