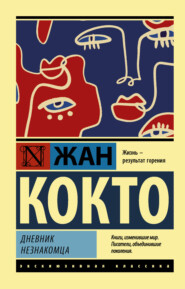скачать книгу бесплатно
* * *
Я заметил, что моя невидимость на расстоянии рискует стать видимой – например в тех странах, где обо мне судят по моим произведениям, пусть даже плохо переведенным, в то время как в моей собственной стране, напротив, о произведениях моих судят по тому образу, который мне сотворили.
Все это весьма туманно. Честно говоря, мне кажется, что видимая часть меня тоже играет определенную роль в том интересе, который я возбуждаю издалека, а ложное представление обо мне интригует. Это заметно во время путешествий: я настолько отличаюсь от моего «афишного» облика, что люди теряются.
В общем, лучше не пытаться распутать эту неразбериху. Все равно функционирование проводника-человека и проводника-произведения – дело непростое, и творения наши проявляют ту же необузданную жажду свободы, что и всякая молодая поросль, которой не терпится вырваться в мир и там выставить себя на продажу.
* * *
Рождающемуся произведению грозит тысяча опасностей как изнутри, так и снаружи. Человеческая личность – это темный небосклон, усеянный клетками, плавающими в магнетическом флюиде. Они движутся подобно другим живым или мертвым клеткам, которые мы называем звездами, и пространство между ними находится внутри нас.
Рак, вероятно, происходит от разлада в магнетическом флюиде (нашего неба) и от крошечной неполадки в астральном механизме, работающем на этом самом флюиде.
Магнит выстраивает железные опилки в безукоризненном порядке, их рисунок напоминает иней или узор на крыльях насекомых и цветочных лепестках. Положите постороннее тело (например, шпильку) между одним из полюсов магнита и железными опилками. Те выстроятся в рисунок, и только в одном месте будет сбой – но не в том, где шпилька: ее наличие вызовет нарушение порядка опилок в мертвой точке, вокруг которой они скучатся как попало.
Как найти попавшую внутрь нас шпильку? Наш внутренний узор, увы, слишком подвижен, слишком многообразен и хрупок. Если бы наш палец не был сделан из межзвездного пространства, он весил бы несколько тысяч тонн. Поэтому исследование – вещь деликатная. Судя по всему (коль скоро универсальный механизм – все же механизм, он должен быть прост и состоять из трех элементов, как калейдоскоп)[4 - Возможно, изобретя калейдоскоп, мимоходом открыли великую тайну. Все его бесчисленные комбинации – суть производные трех элементов, внешне друг другу чуждых. Вращательное движение. Осколки стекла. Зеркало. (Именно зеркало организует два других элемента: вращение и осколки).], в нас происходит нечто подобное: какой-нибудь заусенец механизма грозит породить анархию идей, нарушить организацию атомов и законы гравитации – то есть то, чем, судя по всему, и является произведение искусства.
Стоит ничтожнейшему постороннему телу попасть на один из полюсов магнита, как наше произведение перерождается в раковую опухоль.
К счастью, едва разум начинает заблуждаться, организм сразу же встает на дыбы. Он спасает нас от болезни, которая могла бы подточить произведение и разрушить его ткань. В «Опиуме» я рассказывал, как мой роман «Ужасные дети» застопорился только потому, что я решил вмешаться и «захотел его написать».
Иногда случается, что шпилька, которую вначале не замечаешь, вносит элемент анархии практически на клеточном уровне и меняет судьбу текста, порождая прямо-таки болезнь обстоятельств, – тогда книги не оправдывают чаянья автора.
Кроме непредвиденных препятствий, заключенных в нашем флюиде, малейшая наша инициатива рискует навредить оккультным силам, требующим от нас пассивности, хотя одновременно мы должны быть активны, чтобы создать этим силам хотя бы видимость соответствия человеческим масштабам. Можно вообразить, как мы должны контролировать себя, находясь в состоянии полусна между сознанием и подсознанием: если контроль будет слишком пристальным, произведение утратит трансцендентность, если слишком слабым – застрянет на стадии сновидения и не дойдет до людей.
* * *
Человек увечен. Я хочу сказать, что он ограничен своими физическими параметрами, определяющими его пределы и мешающими ему осознать бесконечность, в которой никаких параметров не существует.
Не столько благодаря науке, сколько со стыда за свою увечность и из-за горячего желания от нее избавиться человеку удается постичь непостижимое. Или хотя бы смириться с тем, что механизм, в котором ему самому принадлежит скромная роль, был задуман не для него[5 - Калигарис пишет о своего рода акупунктуре (к примеру, прикосновение холодного предмета к задней стороне правой ноги, приблизительно на два с половиной сантиметра внутрь от центральной линии и на три-четыре сантиметра ниже середины ноги), пробуждающей в нас рефлексы, благодаря которым мы можем обойти категорию времени-пространства, в результате складывается впечатление, что у подопытного открылся дар ясновиденья. Впоследствии обнаруживается, что все, о чем он говорил, сбылось.].
* * *
Человек начинает даже признавать, что вечность не может существовать в прошлом, ни стать вечностью в будущем, что она в некотором роде статична, что она есть и этим довольствуется, что минуты равноценны векам, а века – минутам, что вообще нет ни минут, ни веков, а одна лишь вибрирующая, кишащая, устрашающая неподвижность. Человеческая гордыня восстает против этого, и человек начинает верить, что его пристанище – единственное на свете и что сам он – его царь.
Затем наступает разочарование, но человек отталкивает от себя догадку, что его пристанище – не более чем пыль Млечного Пути. Ему претит также печальное знание, что наши клетки столь же чужды нам и не ведают о нашем существовании, как звезды. Ему неприятно себе признаваться, что он живет, возможно, на еще теплой поверхности какого-нибудь отвалившегося от солнца осколка, что осколок этот очень быстро остывает, и существует весьма иллюзорная вероятность, что период его остывания растянется на несколько миллиардов веков. (К вероятности такого типа я еще вернусь.)
По дороге от рождения к смерти, пытаясь бороться со вполне понятным унынием, человек придумал кое-какие игры.
Если он верующий (награда или возмездие, обещанные ему, все равно не соизмеримы с его делами), то главным его лекарством против уныния является вера в то, что в конце пути его ждут вознаграждение или пытки, которые он так или иначе предпочитает идее небытия.
Чтобы победить в себе смятение осознанной причастности к непонятному, человек старается все сделать понятным и списать, к примеру, на счет патриотизма массовые убийства, за которые он считает себя в ответе, – хотя, в сущности, этим возмутительным способом земля лишь пытается стряхнуть с себя блох и уменьшить мучающий ее зуд.
Все это так, и наука, правой рукой врачующая раны, левой изобретает разрушительное оружие, к чему подталкивает ее природа, требующая не столько спасения жертв, сколько содействия в сотворении новых – и все будет продолжаться до тех пор, пока она не уравновесит поголовье человеческих особей, как она регулирует круговорот воды.
К счастью, короткие периоды между ужимками и гримасами земли, когда она полностью меняет контуры континентов, профиль рельефов, глубину морей и высоту горных вершин, кажутся долгими.
* * *
Природа наивна. Морис Метерлинк рассказывает, как одно очень высокое дерево выращивало для своих семян парашютики и продолжает это делать до сих пор, хотя выродилось настолько, что превратилось в карликовое растение. В Кап-Негр я видел дикое апельсиновое деревце, ставшее сначала садовым, а потом снова диким и ощетинившееся длинными колючками в том месте, где на него падала тень от пальмы. Достаточно робкого солнечного лучика, чтобы обмануть соки растения, безоглядно подставляющего себя морозам. И так без конца.
Должно быть, ошибкой является само стремление понять, что же происходит на всех этажах дома.
Доисторическое любопытство лежит в основе прогресса, который не более чем упрямое отстаивание ошибочного выбора вплоть до доведения этого выбора до крайних последствий.
* * *
Странно, что на земле, стремящейся к своей погибели, искусство еще живо, и его проявления, которые должны по идее восприниматься как проявления роскоши (поэтому некоторые мистики желают его уничтожить), все еще пользуются прежними привилегиями, интересуют стольких людей и даже стали предметом товарообмена. Когда в финансовых кругах заметили, что мысль можно продавать, то сформировались целые банды для извлечения из нее прибыли. Одни мысль генерируют, другие ее эксплуатируют. В результате деньги становятся абстрактней разума. Но разуму в том мало корысти.
Вот эпоха, когда жулики играют на низменной невидимости, называющейся мошенничеством.
Посредник рассуждает так: «Налоговая система меня обкрадывает. Я буду обкрадывать налоговую систему». Его воображение гораздо смелей воображения артиста, на котором он наживается. Он тоже великий артист – в своем роде. Он восстанавливает равновесие, которое держится исключительно на диспропорции и на обмене. Если бы не его махинации, то кровь, накапливаемая нацией, застыла и перестала бы циркулировать.
* * *
Природа повелевает. Люди ее не слушаются. Чтобы поддержать перепад в уровнях, которые грозят сравняться, она принуждает их к подчинению, используя их же собственные хитрости. Она хитра, как дикий зверь. Кажется, равно любя жизнь и убийства, она печется только о собственном животе и о том, чтобы продолжить свое незримое дело, которое во внешних проявлениях демонстрирует ее полнейшее равнодушие к скорбям каждого отдельного человека. Но люди видят все иначе. Они желают быть ответственными и сентиментальными. Например, в том случае, когда под завалами останется старушка, или затонет подводная лодка, или спелеолог в расселину упадет, или самолет затеряется где-нибудь в снегах. Когда катастрофа приобретает человеческое лицо. Когда она похожа на людей. Но если размеры катастрофы измеряются цифрой со множеством нулей, если катастрофа анонимна, безлика, то люди теряют к ней интерес – разве что испугаются, как бы бедствие не перешагнуло границы анонимной зоны, не достигло их пределов и не стало бы угрожать их собственной судьбе.
То же самое происходит с летчиком, сбрасывающим бомбы на мир, уменьшенный до таких масштабов, что требуется усилие воображения, чтобы вернуть ему человеческие размеры. Бесчеловечность бомбардировщиков объясняется тем, что они не воспринимают этот масштаб, им кажется, будто бомбы падают на игрушечный мир, в котором человек не мог бы ни жить, ни двигаться.
Бывает иногда, что человеческое воображение летчиков включается в тот момент, когда они уже готовы приступить к бесчеловечному разрушению. Об этом говорится в книге, написанной пилотами, сбросившими бомбы на Хиросиму и Нагасаки[6 - Этих бомбометателей звали М. Миллер и Э. Шпитцер. Самолет их назывался «Великий артист».]. Но и они исполняли приказ, который в свою очередь был отголоском других приказов, относящихся к области невидимого и обслуживающих механизм, о котором я пишу, – это он путает карты, когда речь идет об ответственности.
Но ответственность, помимо гордости, порождает в человеке сознание собственной ответственности, вынуждает его искать себе оправдания и тем самым опять служить невидимому механизму. Потому что, если человек решит уничтожить атомное оружие, то тем не отвратит войну, а наоборот, сделает ее еще более вероятной. Этот совет нашептывает ему на ухо пожирающая самое себя природа, и будет нашептывать, пока не убедит, что атомное оружие нужно для того, чтобы сократить его страдания.
* * *
Если судить по моей линии, то можно представить себе, какую опасность (для нас) таит наложение формальных приказов на приказы скрытые. Сама природа (довольно бестолковая) не в состоянии разобраться, что тут к чему, она раздает направо-налево несуразные указания, все кругом падает, после чего она встает посреди наших трупов и снова несется вперед, как упрямое животное.
Астрологи непременно спишут эти падения на счет влияния звезд, хотя на самом деле причиной всему те звезды, что мы носим в себе, наши туманности, и астрологические расчеты дали бы те же самые результаты, если бы ученые уперли свой телескоп – в микроскоп, направленный в себя; там, возможно, они открыли бы небесные знаки нашего рабства.
Рабства относительного, к которому надо еще вернуться.
Мы уж очень вмешиваемся в самих себя. Было бы слишком просто воспользоваться этим предлогом и слишком легко снять с себя ответственность за поступки, идущие вразрез с тем, чего от нас ждут (и что оскорбляет наш собственный мрак).
Какие ошибки я совершил, что в ушах у меня гудит оркестр хулы? И разве не сам я дал к этому повод?
Настал момент спуститься на бренную землю. Коль скоро я обращаюсь к читающим меня друзьям, может, именно благодаря им я смотрю на себя в упор и из обвинителя превращаюсь в обвиняемого. Может, я виню себя справедливо.
Только в чем? В бесчисленных ошибках, за которые на меня обрушиваются молнии гнева не только снаружи, но и изнутри. Бесчисленное количество мелких ошибок, оказывающихся катастрофическими, если принял решение не совершать их и блюсти свою мораль.
Я частенько соскальзывал по склону видимого и хватался за протянутую мне жердь. Следовало проявлять твердость. Я проявлял слабость. Я считал себя неуязвимым. Я говорил себе: «Моя броня меня защитит», – и не чинил образовавшиеся пробоины. А они превращались в бреши, открывавшие доступ врагу.
Я не сразу понял, что публика – это звери о четырех лапах, просто они хлопают передними лапами одна о другую. Я соблазнился аплодисментами. Я повторял себе, что они – компенсация козней. Я совершал преступление, принимая хулу близко к сердцу, а хвалу как должное.
Когда я был здоров, это казалось мне естественным, и я не щадил сил. Заболевая, я изнывал и роптал на судьбу.
Какая уж тут неколебимая мораль? Отдавая себе в этом отчет, я исполнялся отвращения к самому себе и впадал в мрачное настроение, свидетелями которого становились мои друзья. Я их деморализовал. Я настойчиво убеждал их, что вылечить меня невозможно. В своем малодушии я упорствовал до тех пор, пока не прорывался наружу гнев невидимого и меня не охватывал стыд. Переход от одного состояния к другому бывал мгновенным, и мои друзья задавались вопросом, чего ради я морочу им голову.
Под солнцем побережья, где я сейчас обитаю, я раскинул вокруг себя тень. С тех пор, как я взялся переводить чернила, ко мне почти вернулось спокойствие – главное, не задумываться, из ручки текут эти чернила или из моих вен. Потому что тогда я снова впадаю в уныние. Оптимизм мой идет на убыль. Мне кажется, что уныние возвращается потому, что я пытаюсь быть свободным, садясь за работу. Я заражаю унынием окружающих. Я корю себя, сжимаюсь в комок, вместо того чтобы расслабиться – а ведь это та малость, с которой начинается сердечное наслаждение.
Приходит почта из города. Целая пачка. Она рассыпается на сотню конвертов со штемпелями всех стран мира. Мое отчаяние не знает границ. Теперь придется все это читать и сочинять ответы. Секретаря у меня никогда не было. Я пишу сам и сам выхожу открывать дверь. Посетитель заходит. Что движет мной, пагубное желание нравиться? Или страх, что посетитель уйдет? И во мне начинается борьба между отчаянием, что придется терять время, и угрызениями, что письма будут сиротливо – именно так – лежать нераспечатанными.
Если я отвечу, то на мой ответ снова придет ответ. Если прекращу переписку, то посыплются упреки. Если забуду ответить, останется обида. Я уверен, что во мне победит сердце. Но я ошибаюсь. Побеждает слабость, она берет верх над истинным долгом сердца. Но разве не в долгу я у моих близких? Я украл у них время. Кроме того, я обокрал те силы, прислужником которых являюсь. Они мстят мне за то, что я беру сверхурочную работу помимо основной.
Такая вот незадача. Я корю себя за то, что вмешиваюсь в дела неприступно-темной силы, что говорю опрометчивые слова, что упиваюсь разглагольствованиями и вконец теряюсь в нескончаемых пустословных излияниях.
И сам встаю на свою защиту: этот словесный разгул, не является ли он способом довести себя до головокружения, необходимого, чтобы писать, поскольку настоящего умения у меня нет? Если я не заведу этот механизм, то останусь сидеть, как это случается, в прострации, ни о чем не думая. Эта пустота меня пугает, и я пускаюсь в разглагольствования.
Потом я ложусь. Вместо того, чтобы искать спасения в чтении, я пытаюсь найти его во сне. Сны я вижу до крайности сложные и столь правдоподобные в своей нереальности, что, бывает, путаю их с реальностью.
Все это приводит к тому, что границы ответственности и безответственности, видимого и невидимого стираются.
Порой я задаюсь вопросом: а может, я просто-напросто глупец, и тот хваленый ум, который мне приписывают (и который ставят в укор) на самом деле – мираж?
Я подвластен предчувствиям, иногда послушен, иногда строптив, от приступов отваги перехожу к неожиданным наплывам усталости, то промах сделаю, то ловко вывернусь и совершу акробатический трюк, пытаясь удержать равновесие и не упасть на одной из моих лестниц – и в какой-то момент все же оказываюсь глупцом, невразумительным для других и для самого себя, похожим на тех принцев, что во время торжественных приемов ухитряются спать с открытыми глазами.
Не спутал ли я прямолинейность с безропотным повиновением, соединяющим наше колесо с колесом наших слабостей? Не направил ли я свою мораль по мертвой тропе, не завел ли ее в тупик, куда ум отказался за мной следовать? Не пустил ли я свой челн по течению, утверждая, что надо плохо управлять своим челном? Не оказался ли я на необитаемом острове? И теперь меня никто не замечает и не видит знаков, которые я подаю?
* * *
Не то чтобы я совсем впал в детство: почти. Детство мое не кончается. Поэтому про меня думают, что я остаюсь молодым, однако детство и молодость – не одно и то же. Пикассо говорит: «Чтобы стать молодым, нужно много времени». Молодость вытесняет детство. Но с течением времени детство снова вступает в свои права.
Моя мать в детство не впадала. Она вернулась в детство перед смертью. Она была старой девочкой, очень живой. Меня она узнавала, но ее детство возвращало меня в мое детство, притом что оба эти детства между собой не сообщались. Старая девочка восседала в центре событий своего детства и расспрашивала старого мальчика о том, как у него дела в коллеже, советуя впредь вести себя хорошо.
Возможно, я унаследовал от матери, на которую похож, это затянувшееся детство, притворяющееся взрослым возрастом, и в нем причина всех моих несчастий. Возможно даже, что невидимое этим воспользовалось. Вполне вероятно, что именно детскости я обязан некоторыми удачными находками, потому что детям неведомо чувство смешного. Детские высказывания сродни бессвязным афоризмам поэтов, и я с радостью сознаю, что говорил подобные вещи.
Только никто не хочет признавать, что детство и старость в нас перемешаны: такие случаи принято считать слабоумием. Но я слеплен именно из этого теста. Порой меня бранят, пилят, не сознавая, что ведут себя со мной как взрослые родственники по отношению к ребенку.
Я, что называется, путаюсь у них под ногами. Как выясняется, этого достаточно, чтобы обвинить меня в том, что-де капуста, съеденная козой, отравлена, хотя до этого мне вменяли в вину, что коза съела капусту.
Таков человек. Проводниковый механизм, чрезвычайно неудобный в употреблении. Вполне естественно, что этот человек-проводник вызывает раздражение у тьмы, ищущей воплотиться в форму. Я мешаю ей своей глупостью.
Здесь, под солнцем Ниццы, которое временами видится мне черным, в зависимости от того, вправо я клонюсь или влево, – я снова становлюсь пессимистом-оптимистом, каким был всегда.
Спрашивается, смог бы я жить иначе или нет, и моя трудность бытия, все эти ошибки, сбивающие мою поступь, не являются ли они самой поступью, к сожалению, единственно возможной, потому что иначе не умею? Я должен смириться с этой участью, как со своим внешним обликом. Вот я и впадаю то в пессимизм, то в оптимизм, соединение которых является моей отметиной, моей звездой. Пульсирующие движения сердца во вселенском масштабе.
Они заставляют нас грустить из-за чьей-то смерти и радоваться чьему-то рождению, в то время как наше естественное состояние – не быть.
Наш пессимизм происходит от этой пустоты, от этого небытия. А оптимизм диктуется мудростью, подсказывающей воспользоваться отсрочкой, предоставляемой нам пустотою. Воспользоваться, не пытаясь разгадать этот ребус или сказать последнее слово – по той простой причине, что последнего слова не существует и наша небесная система не более долговечна, чем наше внутреннее небо. И долговечность – это сказка, а пустота – не пустота, и вечность водит нас за нос, разматывая перед нами время в его протяженности, в то время как единый блок пространства-времени взрывается, неподвижный, где-то далеко от понятий времени и пространства.
* * *
В конечном итоге человек только хорохорится, и никто не смеет предположить, что наш мир сосредоточен, кто знает, на острие какой-нибудь иглы или сидит внутри чьего-нибудь организма. Один только Ренан отважился произнести довольно мрачную фразу: «Не исключено, что истина печальна».
* * *
Искусству следует брать пример с преступления. Преступник не привлек бы к себе всеобщего внимания, если бы в один прекрасный момент не стал видимым, если бы однажды не промахнулся. Его слава – следствие проигрыша, если только взломы и убийства не совершаются им как раз во имя славы поражения, если он не может представить себе преступление без апофеоза наказания.
* * *
Тайна видимого и невидимого отмечена изысканностью тайны. Ее не разгадать в мире, зачарованном сиюминутностью, не умеющим от нее отрешиться. Эта тайна не терпит компромиссов. Она подчиняется ритму, противоположному ритму общества, потому что ритм общества всегда один, только постоянно маскируется. Никогда еще скорость не была такой медленной. Мадам де Сталь переносилась из одного конца Европы в другой гораздо быстрее, чем мы, а Юлий Цезарь завоевал Галлию в восемь дней.
Трудно писать эту главу. Французский соединяет в себе несколько разных языков, и нам, французам, так же непросто понять друг друга, как если бы мы писали на иностранном. Я знаю людей, которые не любят и не понимают Монтеня, в то время как для меня он говорит на языке, в котором значимо каждое слово. И наоборот, открывая газетную статью, я, случается, перечитываю ее дважды, прежде чем пойму, что к чему. У меня скудный словарный запас. Чтобы добиться хоть какого-нибудь смысла, мне приходится подолгу соединять слова между собой. Но сила, толкающая меня писать, нетерпелива. Она меня подгоняет. От этого совсем не легче. Кроме того, я стараюсь избегать специальных слов, которыми пользуются ученые и философы и которые тоже составляют иностранный язык, непонятный для тех, к кому я обращаюсь. Верно и то, что люди, к которым я обращаюсь, говорят на своем собственном языке, мне чуждом. Тут опять вмешивается невидимое; и пессимизм тоже. Потому что иногда все же хочется смешаться с радостным хороводом, готовым нас принять.
* * *
Если эта книга попадет на глаза какому-нибудь внимательному молодому человеку, советую ему сдержать себя, еще раз перечитать слишком быстро проглоченную фразу. Задуматься о том, как я себя мучу, чтобы уловить волны, которым нипочем смешение эпох, – смешение, которое настолько его смущает, что заставляет обратиться в бегство. Я хочу, чтобы этот юноша попытался избежать множественности, которая ему претит, и погрузился в единичность собственной тьмы. Я не говорю ему, как Жид: «Уходи, оставь свою семью и свой дом». Я говорю: «Останься и укройся в собственном мраке. Изучи его. Вытолкни его на свет».
Я не требую, чтобы он проявил интерес к моим волнам, я хочу, чтобы, соприкоснувшись с испускающим их проводником, он сумел изготовить подобный для производства собственных волн. Порывистую юность не интересует механическое устройство проводника. Я вижу это по многочисленным текстам, которые мне присылают.
* * *
Не следует путать тьму, о которой я говорю, с той, куда Фрейд призывал спуститься своих пациентов. Фрейд взламывал убогие квартиры. Вытаскивал оттуда плохонькую мебель и эротические снимки. Ненормальность никогда не утверждалась им как трансцендентность. Серьезные расстройства не по его части. То, что он устроил, – исповедальня для зануд.
Одна нью-йоркская дама поведала мне о своей дружбе с Марлен Дитрих. Когда я стал ей хвалить сердечность Марлен, она призналась: «Да нет же, просто она меня слушает». Марлен терпеливо выслушивала эту даму в городе, который не терпит жалоб, не хочет, чтобы его жалели, инстинктивно затыкает уши, будто может заразиться опасной болезнью откровений. Дама прилично экономила на исповеди. Обычно этим занимаются психоаналитики, отдающие себя на растерзание занудам. Я считаю правильным, что они дорого ценят свои услуги.
Фрейдовская разгадка сновидений наивна. Простое в них объявлено сложным. Их назойливая сексуальность не могла не обольстить досужее общество, в котором все замешано на сексе. Опрос американцев показывает, что множественность остается множественностью, даже когда предстает в единичном виде и признается в надуманных пороках. Несуразности в этом столько же, сколько в признании своих грехов и выпячивании добродетелей.
Фрейд доступен. Его ад (его чистилище) рассчитан на множественность. В отличие от нашего исследования, он стремится лишь к тому, чтобы быть видимым.
Занимающая меня тьма – совсем другое. Это пещера, в которой спрятан клад. Она открыта только смелому и тому, кто знает заветное слово. Ни врачу, ни неврастенику там не место. Эта пещера станет опасна, если сокровища заставят нас позабыть волшебное заклинание.
Именно в этой пещере, хранящей остатки былой роскоши, в этой гостиной на дне озера нашли свои сокровища все возвышенные души.
Сексуальность, как мы можем догадаться, тоже играет тут определенную роль. Это доказано да Винчи и Микеланджело, только тайны их ни в коей мере не связаны с теорией Фрейда[7 - Процесс над старым колдуном, как сказал бы Ницше, процесс, на котором Эмиль Людвиг исполняет роль генерального прокурора, не рассматривает ни открытий доктора Брюэра, ни достижений психоаналитиков и психиатров. Эти последние уже перестали искать у пациентов собственный недуг. Они их лечат.].
* * *
Коршун, образованный складками платья Пресвятой Девы на картине Леонардо, равно как и мешок желудей под мышкой молодого человека в Сикстинской капелле, демонстрируют, в какие тайники любит прятаться гений. В эпоху Ренессанса эти тайники скрывали не комплексы, но лукавое стремление обмануть бдительность полицейского диктата Церкви. В некотором роде это просто шалости. В них заключена не столько определенная идея, сколько неизжитая детскость художника. Они адресованы не столько исследователям, сколько друзьям, в них не больше пищи для фрейдовского анализа, чем в подписях учеников, обнаруженных под микроскопом в ушах и ноздрях женских рубенсовских портретов.
Что касается «эдипова комплекса»: если бы Софокл не верил во внешний рок, Фрейд мог бы почти совпасть с нашей линией (человеческая тьма, делая вид, что спасает нас от одной ловушки, толкает нас в другую). Боги, резвясь, разыгрывают злую шутку, жертвой которой оказывается Эдип.
Я еще больше усложнил эту ужасную шутку в «Адской машине», сотворив из победы Эдипа над Сфинксом мнимую победу, плод его гордыни и слабости самого Сфинкса – этого зверя, полубога, полуженщины, подсказавшего Эдипу решение загадки, чтобы спасти его от смерти. Сфинкс ведет себя так же, как будет вести принцесса в моем фильме «Орфей»: она решит, что осуждена за то, что поступила по собственному разумению. Сфинкс оказывается посредником между богами и людьми, боги играют им, притворяясь, будто дают ему свободу, и подсказывают спасти Эдипа с единственной целью его погубить.
Предательством по отношению к Сфинксу я как раз и подчеркиваю, насколько Эдипу чужда эта трагедия в ее греческой концепции, которую я развиваю в «Орфее». По наущению богов смерть Орфея сбивается с пути, оставляя его бессмертным, слепым и разлученным с собственной музой.
Ошибка Фрейда состоит в том, что нашу тьму он превратил в мебельный склад – и тем ее обесценил, он распахнул ее – в то время как она бездонна и ее невозможно даже приоткрыть.
* * *
Меня часто упрекают в том, что в моих книгах природа занимает мало места. Дело прежде всего в том, что явления привлекают меня больше, чем их результаты, и в естественном меня в первую очередь изумляет сверхъестественное. Кроме того, другие уже сделали это лучше меня, и было бы величайшим самомнением полагать, что кто-то вообще может тягаться с мадам Колетт. Зайдет ли речь о крылышке или о лепестке, об осе или о тигре – то, что толкает меня писать, это секрет их пятнышек. Прежде меня интригует изнанка, потом уже – лицо. Склонность, заставляющая меня остро наслаждаться вещами и не пытаться при этом передать мое наслаждение.
Каждый из нас должен оставаться при своих привилегиях и не посягать на чужие. Мои заключаются в том, что я не в состоянии почувствовать удовлетворения, пока пустота на моем столе не примет вид наполненности.
Вот и все объяснение этого дневника, в котором ни красота, ни наука, ни философия, ни психология не найдут себе места.
И вот, сидя меж двух стульев, я плету третий – тот призрачный стул, о котором я говорил в преамбуле.
* * *