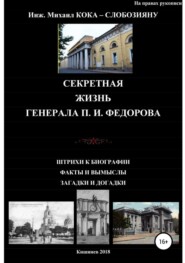 Полная версия
Полная версияСекретная жизнь генерала П.И.Федорова. Штрихи к биографии. Факты и вымыслы. Загадки и догадки
В 20-е годы 19-го века произошли еще некоторые события, которые не могли пройти мимо внимания полицмейстера города или его участия. Одно из них – запрет иностранным судам на заход в Николаевские порты. Связано это с тем, что статус города был определен исключительно как военно–морской порт. Следовательно, иностранцам здесь делать нечего, а тем, которые посещают Николаев по делам, нужно было создать затруднительные условия для их пребывания в городе, то есть, ограничить их передвижения и контакты.
20 ноября 1829 года вышел императорский указ о выселении евреев из Николаева и Севастополя за стоверстную черту. Связано это было с тем, что евреи, осевшие в городе со дня его основания, монополизировали всю торговлю, задавив, по сути, греческих и русских торговцев. Николаев покинули многие еврейские купцы и промышленники, в том числе и судостроители. Выселение растянулось на несколько лет и привело к небывалому упадку всяческой торговли в городе. Как отмечал Григорий Николаевич Ге, резко упали цены на дома и квартиры, постепенно сворачивались ставшие малоприбыльными ремесла, как то хлеботорговля и другие. Взлетели цены на товары в лавках и на базарах. Дело «дошло даже до стачек, что еще больше увеличило необыкновенную прибыльность лавочной и базарной торговли» (Г.Н.Ге). Справиться с возникающими беспорядками одними полицейскими мерами было сложно, но отменять свой указ царь не собирался. По настоянию А. С. Грейга срок выселения был продлен, последний еврей покинул Николаев только в 1837-м году.
В этих событиях П. И. Федоров принимал участие уже как комендант Николаева и генерал–майор.
Дальнейшая его карьера проходила в другой должности и в другом месте. 28 августа 1834 года Павел Иванович Федоров был назначен гражданским губернатором Бессарабии, заместителем генерал–губернатора графа Михаила Семеновича Воронцова. Занимался Федоров сугубо гражданскими делами, как то строительство, разрешение споров, снабжение и т.д. Как он это делал – вопрос другой, но чинами и наградами обделен он не был. В те годы Собственная Его Императорского Величества канцелярия вела тотальную слежку за всеми высокопоставленными чиновниками Российской империи, и составляли донесения самому царю.
Вот образец такого донесения, касающегося деятельности П. И. Федорова: «Генерал–лейтенанту Федорову приписывают многие хорошие качества и некоторые способности; но вместе с тем упрекают его в излишней строптивости характера и неумении обращаться с подчиненными. Принимаемые им строптивые меры заставляют сожалеть о частых отлучках графа Воронцова; а сделанное в последнее время распоряжение о непременном взыскании недонятых податей, невзирая на повсеместные в предыдущих годах засухи, неурожаи и скотские падежи, возбудили против него явный ропот жителей. Рассказывают, что командированные по распоряжению местного начальства чиновники для взыскания недоимок употребляют с помещиками неслыханные до того меры насилия, что неминуемо должно ослабить в жителях уважение к распоряжениям начальства».
К печали местных жителей, граф Воронцов отлучался часто и надолго, иногда находился в отлучке до года. В это время проявилась еще одна черта характера Федорова: выполнять указания с чисто военной педантичностью, без компромиссов и послаблений.
Другие его поступки противоположны по своей сути. Например, строительство Соборной Покровской Церкви в г. Тучкове (так одно время назывался Измаил, где Федоров временно исполнял должность градоначальника). Денег на постройку собора у города не было, поэтому их собирали всем миром. Свой вклад в строительство вносили даже императоры Александр I и Николай I. Поскольку и сам граф М. С. Воронцов пожертвовал на строительство тридцать тысяч левов, то и генерал–лейтенант Федоров не смог оставаться в стороне. Он вернул городу долг в десять тысяч левов, которые занял у городского управления. Эти деньги также пошли на строительство храма.
Или другой пример. В музее Кагула хранится цветной оригинал плана города, созданный самим Федоровым. Видимо, стремление к градоустройству не покидало Павла Ивановича всю жизнь. Здесь он чувствовал себя, как рыба в воде. И город Кагул он стремился устроить как можно более удобным для жизни. Возможно, под влиянием тех лет, которые он провел в Николаеве, обустраивал он далекий от моря Кагул. Улицы Кагула планировались прямыми и широкими, с площадями и рынками, как в Николаеве.
Еще одно дело гуманитарного характера. 25 сентября 1841 года предводитель Бессарабского областного дворянства статский советник и кавалер Иван Михайлович Стурдза направил «Его Превосходительству Бессарабскому Военному Губернатору Управляющему Гражданскою частью и Измаильским Градоначальством Господину Генерал Лейтенанту и Кавалеру» Павлу Ивановичу Федорову письмо, в котором выражал обеспокоенность тем, что в учебных заведениях Бессарабии «туземное юношество всех сословий лишено было пособий к основательному изучению Российского языка, а также к усовершенствованию себя в природном языке письменном… – в уездных училищах нет учителей молдавского языка, нет учебных книг и пособий по сему предмету. Приемлю честь по предоставленному мне праву всепокорнейшее просить Ваше Превосходительство принять ходатайство о разрешении способов к изучению здешнего юношества молдавскому языку».
Его Превосходительство не стал решать вопрос единолично, а направил его на рассмотрение Бессарабского областного совета. Прошло всего полгода, и 21-го марта 1842 года областной совет постановил: «принимая во уважение вышеизложенное ходатайство господина областного предводителя дворянства, об усилении в Бессарабских училищах преподавания языков, а в особенности молдавского, областной Совет полагает: на первый случай допустить преподавание в уездных училищах: Хотинском, Бельцком (и Кишиневском) одного только молдавского языка как более нужного для здешнего молдавского юношества и затем уже по усмотрению учебного начальства ввести во всех народных училищах области преподавание и других иностранных языков, отнеся издержки на содержание учителей на счет 10% капитала области, как это сделано по учебным заведениям в области согласно Высочайшему соизволению, – а на учебные пособия на счет дворянской кассы, согласно изъявленному на то желание дворянства».
Еще одна типичная история того времени. Это если и не вершина бюрократического абсурда, то, по меньшей мере, его подножие.
Служил на Бердянской таможенной заставе управляющим некто Василий Крыжановский, а в Мариуполе такой же таможней заведовал Трандафилов. В свое время граф Воронцов одного переместил из Бердянска в Мариуполь, а второго, следовательно, на его место. Но вскоре выяснилось, что «Крыжановский, будучи склонен к интригам и имея беспокойный характер, есть одною из главных причин нарушения согласия между бердянскими негоциантами и жителями». Другими словами, порядочный и принципиальный человек Василий Крыжановский пришелся не ко двору местным купцам, не желавшим платить таможенный сбор. Надо было что-то делать. И Воронцов принимает соломоново решение: «Не сочтете ли, Ваше Превосходительство, просить министра финансов о переводе Трандафилова в Бердянск, а Крыжановского в Мариуполь» (письмо П. И.Федорову от 17 июня 1846 года).
На решение этого, в общем-то, пустякового вопроса ушло полтора года. После ленивой переписки П. И.Федорова с Таврийским гражданским губернатором В. Пестелем, министром финансов Ф. Вронченко и самим М. С. Воронцовым министр финансов 24 декабря 1847 года уведомил всех заинтересованных лиц, «что он приказал сделать распоряжение о перемещении надзирателей таможенных застав: Бердянской – Крыжановского и Мариупольской – Трандафилова одного на место другого».
Такая вот история. Но как бы то ни было, Павлу Ивановичу Федорову удалось взобраться на одну из вершин власти и жил, обласканный ею, до конца своих дней. Но как же можно расценить увольнение его с должности бессарабского военного губернатора и назначение сенатором? Он заседал в 1-м отделении 6-го департамента и занимался почти тем же, чем и в Николаеве – уголовными делами. Было ли это назначение повышением в должности или понижением? А может дело не в этом? В самом разгаре была Крымская или, как ее еще называли, Восточная война, и старого рубаку убрали от греха подальше, чтобы дров не наломал? А может, и успел наломать, ведь к тому времени российские войска вошли в Дунайские княжества (страны Балканского полуострова, оккупированные Турцией – Н. П.) и вели там активные боевые действия. А добирались они туда с немалыми трудностями и затратами как раз через территорию подвластной Федорову Бессарабии. Похоже, что Павла Ивановича отправили в почетную ссылку на малозначимую должность в сенате.
А портрета его так нигде и не нашлось.
Нет и изображения дворянского герба, пожалованному Павлу Ивановичу Федорову 8-го августа 1847-го года, хотя есть описание, или, как его еще называют, блазон герба: "Щит поделен вертикально. В правой части в красном поле диагонально слева направо серебряная полоса. В ней один под одним три верблюда натурального цвета. В левой части, в голубом поле накрест золотые шпага острием вниз и оливковая ветвь. Над ним сверху золотая городская корона. Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник – рука в серебряных латах держит золотую оливковую ветвь. Намет красный и голубой, подложен серебром и золотом. Девиз: БОЖИЙ ДАР, черными буквами на серебряной ленте".
Те, кто интересуется геральдикой, наверняка без труда расшифруют этот любопытный герб, мы же коснемся только некоторых его элементов.
Первое, что бросается в глаза – это верблюд, животное, совершенно не характерное для российской геральдики. На Востоке же верблюд олицетворяет мощь, величие и оплот. Что подвигло П. И. Федорова выбрать такой символ – загадка, тем более, что восточнее Кавказа он никогда не был. Шпага напоминает о принадлежности к военному сословию, но обращенная острием к земле, да еще и в сочетании с оливковой ветвью, говорит, что это уже в прошлом, а теперь обладатель герба занимается сугубо мирными делами. Городская корона говорит о власти, а мы знаем, что некоторое время Федоров был градоначальником Измаила или Тучкова, как его тогда называли. Серебряная диагональная полоса – стилизованный след от удара мечом по щиту. Голубой цвет обозначает величие, красоту и ясность, а красный – храбрость, мужество и неустрашимость. Чего–чего, а именно этих качеств Павлу Ивановичу Федорову было не занимать. © 2005–2016 Николаевский Базар http://bazar.nikolaev.ua
ЗИНАИДА МАТЕЙ, ВЛАДИМИР ТАРНАКИН. БЕССАРАБСКИЙ ВОЕННЫЙ ГУБЕРНАТОР ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ФЁДОРОВ. 1834–1854 гг.
Бессарабские губернаторы, занимавшие эту должность с 1812 года, заботились о благоустройстве края и обеспечения законности, о защите подданных от произвола и волокиты при рассмотрении дел местными государственными учреждениями. Они отвечали за обеспечение государственных резервов на случай чрезвычайных обстоятельств, за своевременный сбор налогов и исполнение воинской повинности. Среди таких славных фамилий Бессарабских губернаторов как: С. Д. Стурдза, И. М. Гартинг, В. Ф. Тимковский, А. И. Сорокунский, П. И. Аверин, М. И. Ильинский, Фантон де Веррайон, П. А. Антонович, Н.И Шибеко, А. П. Константинович, А. Н. Харузин и другие, достойное место занимал Павел Иванович Фёдоров.
Благоустройство города Кишинёва
28 августа 1834 года Павла Ивановича назначили Бессарабским гражданским губернатором. Для нашего края это стало важной страницей в истории развития Кишинёва и всей Бессарабии. Все ждали появления человека, который своей безграничной энергией мог бы «…пробудить к жизни, дремавшие культурные силы страны». Вот что писал А. Я.Стороженко, посетивший Кишинев в конце 20-х годов XIX века: «Кишиневское или все Бессарабское гражданское начальство живет лишь для себя. Полицмейстер не зависит от Губернатора, а сей последний, кроме злоупотреблений, ни к чему полезному без разрешения приступить не может. Стоит только въехать в город, чтобы судить о неисправности полиции, и заглянуть в какое вам угодно губернское присутственное место, чтобы видеть общий беспорядок в управлении Областью. Нет ни суда, ни правды. Губернаторов до десятка переменилось не более, как в течение двух лет, считая вице-губернаторов. Двое из них заглянули только в присутственные места и, убоясь бездны открывшейся перед ними, можно сказать, бежали. Нерешенным делам нет счёту, равномерно как израсходованным казённым суммам. Здесь необходимо быть губернатором человеку знатному, богатому, иначе Кишинев со временем сделается деревнею. Бессарабии нужен был свой Потёмкин, и он явился в лице военного губернатора Павла Ивановича Фёдорова».
Развитие будущего европейского города Кишинева по проекту наместника Бессарабской области Бахметьева касалось только его новой верхней части, начиная от улицы Николаевской (ныне ул. Колумна) к западу. Старая часть города оставалась без изменений. До назначения Павла Ивановича Фёдорова, гражданским губернатором был Павел Иванович Аверин, занимавший эту должность с 16 июля 1833 года по 28 августа 1834 года. Именно с его лёгкой руки состоялось открытие Кишинёвской областной гимназии (12 сентября 1833 года); издано «Положение о царанах» (24 января 1834 года); учреждён Бессарабский приказ общественного призрения; Высочайше утверждён новый план города Кишинёва (2 августа 1834 года). На этом плане рукой Императора было написано: «Быть по сему. Николай I, Александрия, близ Петергофа. 2-го августа 1834 года». По плану предстояло урезать старые кварталы и «втиснуть» их в новые прямолинейные формы. Впервые устанавливались названия улиц и были обозначены квартал армянского подворья и пустыри «…отведённые для постройки присутственных мест и домов для Областного начальства». На плане Кафедральный собор с колокольней отмечались как оконченные постройки, но Святых ворот не было. В верхней части города выявились и недостатки: площадь, предназначенная для города, не была нивелирована; не расчищены бугры и не выровнены впадины, все улицы «утопали» в навозе и мусоре, умножая грязь и способствуя испарению вредных веществ. В нижней части города весной при таянии снега или во время сильных дождей, вода затопляла дома, погреба и даже целые улицы.
Река Бык, на которой стоит город Кишинёв, была основным источником воды для хозяйственных потребностей жителей. На ее берегах всегда можно было найти место для водопоя животных, удобные места для купания лошадей, для беления холстов и стирки белья, для выделки кож, для поливки огородов. Но для питья она была не пригодна. Была у города и своя достопримечательность – это источник у подножия Мазаракиевской церкви. Благодаря заботам графа М. С.Воронцова, источник был обустроен таким образом, что вода поступала из 40 отверстий. В 1834 году по распоряжению губернатора Фёдорова на серных источниках у подножия Мазаракиевской церкви была устроена купальня.
Впоследствии купальню называли Дворянской баней, а её владельцем был купец Добромиров Савва Степанович.
1835 год – переломный этап в развитии города. Павел Иванович предпринял деятельные меры по устранению всяческих неудобств. Улицы города начали приобретать настоящий европейский вид: холмы выравнивались до нужного уровня, углубления засыпались и утрамбовывались, для воды устраивались стоки. Весь город превратился в одну строительную площадку. На новых участках возводились частные архитектурные шедевры, красивые административные здания и культовые сооружения: лютеранская кирха, католический костёл, клубный дом, школа для канцелярских служителей, пожарное депо с каланчой, здания городской полиции для арестантской роты, военный госпиталь.
Павел Иванович обратил внимание на работу присутственных мест, в которых не велось чёткого упорядочения документов и накопилось огромное количество нерешённых дел. Для ведения делопроизводства не хватало печатных форм и книг. Павел Иванович ходатайствовал об учреждении губернской типографии и в 1835 году из Кишиневского уездного Казначейства ему была выдана ссуда в две тысячи рублей сроком на 8 лет. Типография в этом же году начала работать. Она была буквально завалена заказами, что облегчило возврат ссуды, взятой у Казначейства. Все присутственные места губернии стали пользоваться печатными формами и книгами для текущего делопроизводства. Фёдоров знал цену порядку и аккуратности и быстро достиг желаемых результатов в этом деле.
При открытии в Кишинёве публичной библиотеки в 1832 году были собраны пожертвования в сумме 700 рублей ассигнациями. Эти деньги оставались неприкосновенными до 1835 года. Павел Иванович распорядился употребить эти средства на переплёты книг.
В 30-х годах XIX века вышел указ Сената «О необходимости мощения улиц в городах». В 1835 году Павел Иванович предпринял первые организационные шаги в этом направлении. Жители Бессарабии, имевшие собственные дома в городах, под руководством городского головы создавали временные комитеты. Комитеты определяли улицы, которые нужно было вымостить в первую и во вторую очереди. Эти предложения предстояло подать на утверждение Министерству Внутренних дел. Но, к сожалению, не успев начать свою работу в полной мере, деятельность этих комитетов прекратилась.
Город Кишинев под руководством П. И.Фёдорова стал быстро разрастаться. В 1836 году в центре города был возведён кафедральный Христо-Рождественский собор. В сорока метрах от него возведена колокольня. Колокола для этой колокольни в 1838 году отливались в крепости города Измаила. Четыре колокола весом в 200, 100, 50 и 25 пудов, навесили через готовые проёмы на колокольню, а самый большой колокол в 400 пудов в проём не вошёл. Он остался стоять на площади перед собором. Использовать колокол в другом месте не могли, так как колокол украшала надпись: «От щедрот Императора Николая I для Кишиневского Кафедрального Собора. 1838 год». Фёдоров предложил построить для этого колокола отдельные ворота при входе в сквер Кафедрального собора. Архитектор Лука Заушкевич воплотил в жизнь проект губернатора в виде Святых ворот. За основу была взята Триумфальная арка, находящаяся в Риме. На строительство ворот Павел Иванович пожертвовал 4500 рублей, что составило больше половины всей стоимости. Остальную сумму пожертвовали: городской голова, помещик Богачёв и соборный староста Рябченко. Арка была закончена в 1841 году, а «…дабы она не отвращала взоры жителей и гостей…», Фёдоров приобрёл городские часы из Австрии, которые стали еще одним украшением города. Каждый час и каждые полчаса большой колокол отбивал время. Местные жители прозвали колокол «Малиновым» за красивый мелодичный звук. Винтообразная железная лестница, находящаяся внутри арки, вела на второй этаж к часовому механизму. Строительство арки стало еще одним украшением главной площади города. Она была построена со сквозными проездами из цельного плотного камня, притёсанного по швам без штукатурки. Каждая сторона арки поддерживалась 16 колонами коринфского ордера. Лепные работы, как на колонах, так и на всей арке были сделаны из наведённой глазурью глины, что давало сходство с фарфором.
На площади вокруг великолепного православного собора с отдельной колокольней и Святыми воротами раскинулся прекрасный Николаевский бульвар, который по размерам и красоте мог считаться первым среди других садов губернских городов. Он был обнесён дубовой фигурной решеткой, выкрашенной в зелёный цвет.
В 1836 году закончилось строительство каменной Харалампиевской церкви по улице Золотой (ныне Александру чел Бун).
В 1836 году Бессарабский гражданский губернатор Павел Иванович Фёдоров назначен Бессарабским военным губернатором. Это звание давало больше самостоятельности в управлении делами в области.
В 1839 году издан Высочайший указ поощрительных мер, побуждавший жителей на новые постройки в городе. Эти меры состояли из следующих пунктов: 1) всем купцам, строящимся в 1839 году в Кишиневе, давалась десятилетняя льгота; 2) дома принимались в залоги по всем частным и казённым обстоятельствам; 3) вместо натурального постоя вводился квартирный сбор; 4) под постройки отводились места без какой-либо оплаты. Этот указ способствовал появлению в городе красивых и капитальных строений. Сравнивая Кишинев с 1834 годом, когда всех домов было 2500, за десять лет эта цифра удвоилась. В среднем в городе ежегодно выстраивалось свыше 250 новых домов. Дома строились в два – два с половиной этажа – это была предельно допустимая высота, так как частые землетрясения сотрясали край. В таких домах выстраивались подвалы-погреба для сохранности заготовок и сельхозпродуктов. Город пересекали в разных направлениях 90 широких и прямых улиц и переулков. Каждая из 15 площадей была замечательна своим предназначением: плац-парадная площадь вокруг собора была устроена для военных парадов, площадь гостиного двора или красные ряды – для торговли промышленными товарами, лесная, сенная и скотопригонная площади – для торговли сельхозпродуктами и животными, площадь старого базара для торговли различными товарами. Особенно людно и шумно на таких площадях бывало в дни ярмарок, а сумма коммерческих оборотов достигала значительных доходов.
Хозяйственная промышленность жителей Кишинева и его уезда проявлялась в хлебопашестве, скотоводстве и овцеводстве, огородничестве, фруктовых садах и виноделии. Всех фабрик и заводов в черте города насчитывалось около 80, в том числе: салотопенные, свечные, мыловаренные, шерстомойные, кожевенные, воскобойные, шелковичные, табачные, макаронные, водочные, кирпичные, гончарные, бочарные, красильные. Кроме этого действовали мельницы: паровые, конные, водяные, ветряные. Работали христианские ремесленные цеха: часовые, башмачные, сапожные, портняжеские молдавского платья, портняжеские русского платья, ткацкие, серебряничные, хлебопекарные, шелковичные, ботнарские, шорные, кузнечные, кожухарские, резчиков, плотников и каменщиков, иностранные ремесленные, брагарские, пасеки. Ремесленные еврейские цеха: башмачные, салотопенные, портняжеские, серебряных и золотых дел, хлебопекарные, ботнарские, шапочные, столярные и стекольные, малярные, вымочные, шмухлерские (занимались изготовлением позументов, галунов, тесьмы, шнуров и т.д.),, музыкантские, серничные.
Из особых торговых заведений в городе находилось 6 винных погребов, 8 кондитерских, 18 трактиров и гостиниц, 57 харчевен, 14 кофеин, 12 постоялых дворов, 250 питейных домов. Лучшая гостиница в городе содержалась купцом второй гильдии купцом Никопольским. При ней 10 чистых и поместительных комнат для приезжающих, бильярд, кондитерская и кофейня. Стол ежедневно готовился на 20 особ. Из трактиров первое место принадлежало заведению, которое содержали купцы второй гильдии Левчинский и третьей гильдии Ильев. В меню всегда был вкусный и сытный стол с вином и кофе по 50 коп. серебром с персоны. Остальные трактиры и гостиницы также поддерживались в соответствующей чистоте. Питейные заведения торговали трехпробной водкой, сладкой водкой, французской водкой, пенной водкой, 100 % спиртом, местным вином, полугаром и пивом.
В Кишинёве в основном продавали: местное вино, чернослив, орехи, выделанные и невыделанные воловьи и овчинные кожи, шерсть овечью, воск, табак и свечное сало. По средам в городе – базарный торг, на который местные жители привозили хозяйственные предметы для продажи. В октябре месяце работала Дмитриевская ярмарка, где торговые люди предлагали мануфактурные и сельские продукты оптом и в розницу. Ярмарка была шумная, многолюдная, часто продлевалась до первых заморозков.
Каждый год население города увеличивалось на две с половиной тысячи жителей. В основном это увеличение происходило из-за переселения в край новых поселенцев, которых привлекали различные льготы, как в Бессарабской области, так и особенно, в Кишинёве. Начиная с 1840 года Кишинёву были даны следующие льготы: «…1) Зажиточные люди, купившие в течение льготного времени какие-либо здания или торговые заведения (лавки, фабрики, заводы), освобождались от гильдейских повинностей на всё означенное время; 2) льготы распространялись на тех, кто построил подобные здания или заведения, начиная с 1 января 1836 года; 3) лицам, состоящим на льготе по 1-й и 2-й гильдиям, разрешалась торговля и производство промыслов в Бессарабии и во всём Новороссийском крае. Для промыслов в других местах империи следовало приобретать установленные свидетельства; 4) купцы 3-й гильдии ограничивались городом Кишинёвом и его уездом. Для промыслов в других городах также следовало приобретать свидетельства наравне с местными купцами; 5) Срок льгот для всех заканчивался с истечением льготного времени, даруемого городу Кишинёву».
Население города состояло из дворян, духовенства, купцов, мещан и цеховых. Мещане в свою очередь подразделялись на отдельные общества: мазылы, рупташи, молдавско-рупташское, греческое, болгаро-рупташское, болгаро-простое, великороссийское, балтское, воронежское, иностранное, армянское, первое молдавское, второе молдавское, третье молдавское новое, четвертое молдавское, румелийское, выкресты, предместье Буюканы, еврейское – всего 46735 чел. (Рупта – привилегия дарованная предкам, выселившимся из Турции, еще при молдавских господарях; освобождалась от земских повинностей). Сельских обывателей в Кишиневе составляли: государственные крестьяне, дворовые крестьяне, временно-обязанные и колонисты, всего – 1173 человека. Военных и нижних чинов насчитывалось 2130 чел. Многие из нижних чинов занимались постоянной торговлей, различными ремеслами и хлебопашеством. Иностранцев, не принимавших подданства, насчитывалось 381 человек.



