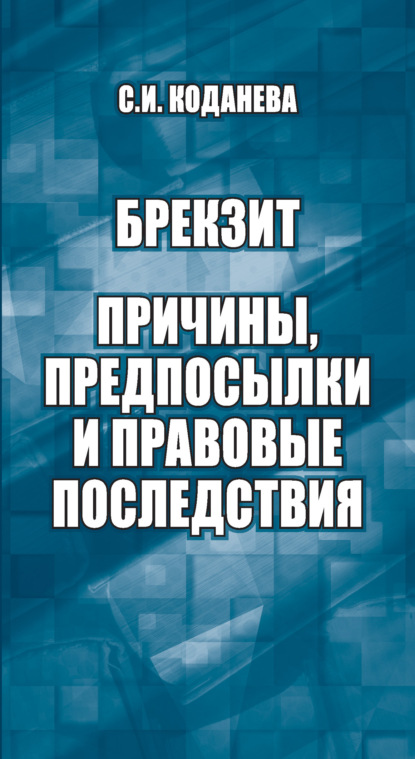
Полная версия:
Брекзит: причины, предпосылки и правовые последствия
Иными словами, это целенаправленная политика разрушения существующей политической системы или противодействия подготовленным политическим решениям. Например, Л. Соренсен описывает, как популисты претендуют на истину, «разоблачая» рассчитанные и спланированные действия элиты. Достигается это посредством активного использования современных сетевых средств коммуникации, которые позволяют привлечь большое внимание публики. Вслед за сетевыми в эту «игру» включаются традиционные СМИ, транслирующие скандальные выходки или заявления популистов в стремлении повысить свои рейтинги и привлечь аудиторию[28].
Следовательно, основной целью современного популизма выступают политические элиты, а объектом эмоционального воздействия – народ. То есть популизм действует по вертикальной оси, противопоставляя «народ» «элите». Соответственно, в популистских дискурсах «народ» объединяет различные и даже маргинальные группы.
Таким образом, обращение к «народу», которое позволяет многим исследователям говорить о «националистической» природе популизма, не учитывает, что национализм действует по горизонтальной оси, проводя противопоставление между «нами» и «ими». Причем центральной точкой такого противопоставления является «нация».
По мнению Б. де Клин и Я. Ставракакис, дискурс национализма относится к «ограниченной и суверенной общности, существующей во времени и привязанной к определенному пространству, которая конструируется через оппозицию между нацией и ее внешними группами»[29].
Действительно, как показано в работе М. Кэнован, «народ» – это сложное понятие, которое может иметь различные значения в различных контекстах во времени и пространстве. «Народ» может проявляться как на вертикальном, так и на горизонтальном уровнях. Так, исторически «демос» выступал как источник демократической легитимности в конкретной республике, но в то же время народ может представлять собой «большинство», эксплуатируемое элитой меньшинства и не имеющее политического голоса[30].
Таким образом, нельзя согласиться с абсолютным отождествлением национализма и популизма. А в качестве аргумента против такого подхода применительно к Брекзиту следует заметить, что одна из центральных тем идеи «Глобальной Британии», которая активно поддерживается сторонниками выхода из ЕС, связана с уникальным интернационалистическим прошлым Великобритании. Сторонники Глобальной Британии утверждают, что британский интернационализм проистекает из врожденных качеств нации. Британцы легко взаимодействуют с любыми странами и народами по всему миру, поскольку у них для этого есть необходимые навыки и интуиция. Экс-премьер-министр Т. Мэй упомянула об этом инстинктивном интернационализме в своем выступлении 17 января 2017 г. «Глобальная Британия». Этот «внутренний интернационализм» позволил ряду обозревателей объяснить результаты референдума готовностью британцев вновь «утвердить свою глобальную идентичность»[31].
Таким образом, популистская риторика Брекзита вовсе не сводилась исключительно к националистическим чувствам жителей страны. С. Браунинг утверждает, что развернувшийся дискурс лег на плодородную почву недовольства ухудшающимися условиями жизни <…> а также неуверенности в будущем[32].
Что же касается национальной идентичности, которая рассматривается как альтернатива этим страхам и обещание стабильности, то, как наглядно демонстрируют Б. де Клин и Я. Ставракакис, речь идет не столько о ней, сколько о попытке идентификации себя в мире, что является чисто политической игрой[33].
Таким образом, популистская риторика сторонников выхода была нацелена на недовольства и страхи жителей страны, с одной стороны, обещание возвращения в былые «золотые» времена – с другой, и поиск очевидного и материального «виновника» всех существующих бед – с третьей. Безусловно, нельзя не признать, что массовое и постоянное декларирование в традиционных и сетевых СМИ негативного образа мигрантов, которые виноваты в снижении доходов и потере рабочих мест коренными жителями Великобритании, не могло не вызвать всплеска националистических настроений. Однако представляется, что это фактор второго порядка, связанный именно с необходимостью найти наглядное и «овеществленное зло», проистекающее из ЕС, на которое можно излить гнев и недовольство. Современные британские «национализм» и «сепаратизм» – явления иного порядка. Они коренятся не столько в «нелюбви» к мигрантам и вообще «иным» (коими являются континентальные европейцы), сколько в других причинах, которые будут рассмотрены далее.
Society. – 2020. – Vol. 33. – Р. 301. – URL: https://doi.org/10.1007/s10767-019-09326-7 (дата обращения: 10.02.2023).
1.3. Значение глубокой социальной трансформации Западного мира для исхода голосования за Брекзит
Итак, популисты предлагают простой и, казалось бы, ясный ответ на те проблемы, которые современные либеральные демократии не могут решить. Эмоции людей, на которых играют популисты, являются результатом гораздо более широких социальных изменений, чем простое снижение уровня жизни и безопасности для части населения. Речь идет об утрате доверия к стабильности социального мира.
Как подчеркивают некоторые эксперты, сегодня западное общество столкнулось с кризисом либеральной демократии, когда за фасадом формальных демократических принципов государство и его институты контролируются привилегированными элитами, что обостряет противоречия между представителями властно-политического истеблишмента Запада, разбогатевшими на присвоении всех дивидендов глобализации, и их рядовыми соотечественниками, вынужденными платить за изъяны глобализации на многих направлениях, включая сокращение рабочих мест и формирование низкооплачиваемых сегментов экономики, международный терроризм, наплыв мигрантов и т. д.[34]
И. Дюркхайм утверждает, что в настоящее время мы являемся свидетелями не столько краха доверия к институтам самой демократии, сколько, возможно, более важного краха доверия к стабильности социального мира. Именно эта трансформация подрывает чувства идентичности и сопричастности людей и, следовательно, может быть реальной причиной роста популизма[35].
Это позволяет объяснить, почему за выход из ЕС агитировали и голосовали представители всех социальных слоев в Великобритании. Глобальный капитализм и связанные с ним технологические преобразования не только угрожают условиям жизни так называемых проигравших в глобализации, но и трансформируют условия жизни тех, кто имеет экономический достаток и может чувствовать себя в относительной безопасности. Этот общий характер социальной трансформации объясняет, почему она все больше утрачивает определяемую классовую основу и почему традиционные политические партии становятся все менее различимыми в своих программах, срастаясь с истеблишментом и не предлагая альтернатив существующему порядку[36].
Социальный кризис, с которым сталкиваются современные демократии, следует рассматривать с точки зрения ощущения отсутствия внутреннего мира, которое стало широко распространено среди значительной части населения. Речь идет о разрушении доверительных социальных отношений внутри человеческого сообщества. В нормальных условиях демократические правительства имеют достаточно сильную социальную базу, чтобы смягчить возможное несовершенство процесса принятия политических решений. Сила гражданского общества проистекает из его внутренней организации в сообщества, которые могут формулировать ценности, интересы и в конечном счете занимать и отстаивать свои политические позиции. Такая система организации взаимоотношений между «обществом» и «властью» придает легитимность результатам демократических процедур, даже если они не отвечают ожиданиям определенных групп общества. Профессиональные сообщества, религиозные общины, неправительственные организации, стабильные семейные отношения и институты самоуправления на муниципальном уровне создают основу для самореализации людей, которая компенсирует отсутствие представительства на политическом уровне.
В. Хайтмайер в своей книге «Соблазн авторитаризма: сигнатура угрозы» («Autoritare Versuchungen: Signaturen der Bedrohung») раскрывает взаимосвязь роста популизма в Германии с трансформацией капитализма за последние 30 лет. Как он отмечает, в основе растущего недовольства либерально-демократическими институтами лежит распространение «авторитарного капитализма», т. е. капитализма, который привил себе иммунитет против сдержек и противовесов политической системы и стал достаточно мощным, чтобы позволить доминировать экономическим институтам над другими социальными и политическими институтами. «Благодаря этому новому доминированию растет напряженность между принципами капиталистической экономики, основанной на неравенстве и силе наиболее приспособленных, и демократией, основанной на равенстве»[37].
Более того, этот новый капитализм превращает рыночную экономику в рыночное общество, тем самым разрывая традиционные социальные связи, навязывая свои ценности и паттерны как единственно верные и возможные. В конечном итоге это приводит к маргинализации или уничтожению всех форм общинного взаимодействия, за исключением экономического. Навязываемая обществу в качестве основной догма гибкости приводит к разрушению традиционных форм жизни и целостности личности, а далее – к чувству потери контроля над личным жизненным выбором и свободы самостоятельно строить свою жизнь, что сопровождается ощущением бесправия. Примечательно, что В. Хатмайер, который провел широкое эмпирическое исследование, выявил растущее влечение к популизму среди групп с высоким уровнем дохода. Он эмпирически опровергает тезис о том, что популизм, и особенно правый популизм, в основном поддерживают те, кто в силу недостаточного образования, возраста и иных социальных причин проиграл от глобализации[38].
То, как развитый капитализм влияет на личный мир и свободу выбора жизненного пути людей, было описано ведущими теоретиками, участвующими в дебатах о постмодернистском обществе и идентичности. В их трудах определены три направления разрушения стабильных структур гражданского общества в западных демократиях в результате развития капитализма: индивидуализация, ускорение и демографическая трансформация.
Повышение заработной платы, социальной мобильности и сокращение рабочего времени позволили расширить личную свободу в определении индивидуального жизненного выбора, такого как профиль работы, структура семьи и даже место жительства. Саморефлексия и поиск личностной самореализации все больше вытесняют традиционную идентичность, определяемую социальной средой. В то же время обратной стороной индивидуализации стала стандартизация биографий, требуемая рынками труда и динамикой карьеры, а также нестабильность социальных и трудовых отношений. Многие люди потеряли безопасность стабильных, долгосрочных рабочих контрактов как горизонт индивидуального жизненного выбора. И если в конце прошлого века чувства свободы и эмансипации опирались на стабильную институциональную структуру, то теперь такой опоры не стало, зато возникло понимание, что не все могут справиться с этой новой свободой и найти себя, что и порождает чувства неуверенности, страха и бессилия.
Современные технологии, особенно такие, как Интернет, мобильная связь и цифровизация, не только изменили систему общественных коммуникаций, но и привели к трансформации личной жизни человека, которая, так же как его профессиональная карьера, перестала быть стабильной. Если раньше выбор профессии, семьи, религии и места жительства, как правило, был долгосрочным, создававшим основу для самоидентификации, то жизнь современного человека – это серия ситуативных или временных идентичностей, а большинство жизненных выборов структурируются вокруг «проектов». Кто я, где живу и чем занимаюсь – все чаще определяется конкретными ситуациями, в которых я нахожусь, а не долгосрочным планированием. Это приводит к потере автономии и контроля над основными условиями своей жизни, а затем – к эрозии личности и характера[39]. Человек становится неспособным сделать ясный и надежный долгосрочный выбор для себя и своего социального окружения, и поэтому он испытывает «личную остановку» посреди непрерывных изменений и движения. Р. Сеннетт выявляет связь между переживаниями дрейфа и полной остановки, с одной стороны, и психологическими патологиями, такими как депрессия и выгорание, – с другой.
Наконец, демографическая трансформация связана с нарастающей миграцией. Молодые и здоровые люди уезжают в надежде найти лучшие условия труда и зарплаты в другом месте. Оставшееся население, в основном пожилое и менее мобильное, страдает от того, что И. Крастев называет «демографической паникой»: «страхом, что страна и ее население перестанут существовать»[40]. Именно этот страх и не позволяет этой части населения рассматривать иммиграцию как решение для заполнения демографического разрыва и заставляет видеть в мигрантах угрозу. И хотя И. Крастев пишет о проблемах, свойственных странам Восточной Европы, для жителей Великобритании данная проблема также оказалась актуальной, поскольку глобализация приводит к разрушению традиционной культуры и ценностей. Так, опрос, проведенный Лордом Эшкрофтом, показал, что «подавляющее большинство избирателей, которые видели мультикультурализм, феминизм, зеленое движение, глобализацию и иммиграцию как силы добра, проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС; те, кто видел в них силу зла, проголосовали за то, чтобы покинуть ЕС»[41]. Как отмечается в докладе Национального центра социальных исследований «How deeply does britain’s euroscepticism run?» («Насколько глубоко укоренился британский евроскептицизм?») 2016 г., в основе евроскептицизма лежит значительный культурный разрыв между теми, кто предпочитает относительно однородное общество, и теми, кого устраивает более разнообразное общество[42]. В. Дженнингс и Дж. Стокер выявляют схожие группы контрастных культурных ценностей, которые они называют «захолустными» (ориентированы внутрь; относительно негативно относятся к ЕС и иммиграции; обеспокоены появлением новых прав для меньшинств; «склонны к ностальгии») и «космополитичными» (видят глобальные перспективы; относительно позитивно относятся к ЕС; за иммиграцию; с уважением относятся к защите прав женщин, этнических и сексуальных меньшинств)[43]. Это столкновение традиционных и глобальных ценностей легло в основу политического противоборства сторонников выхода из ЕС и сохранения членства в нем, который наиболее ярко проявился в дебатах по поводу иммиграции. История иммиграции как проблемы, связанной с общественным беспокойством по поводу уязвимости национальной идентичности перед приходом конкурирующих культур, насчитывает два десятилетия. Примечательно, что важность английской идентичности как фактора при голосовании за выход была отмечена во всех исследованиях, посвященных результатам голосования на референдуме. Это растущее значение английской идентичности проявилось в электоральных предпочтениях как реакция на глобализацию, утрату культурной основы и все более многокультурный характер британского общества, обусловленный иммиграцией.
Еще в 2002 г. профессор Оксфордского университета Л.М. Макларен предупреждала, что усиление европейской интеграции может вызвать антагонизм у европейских граждан, которые ценят свои самобытные национальные культуры и которые рассматривают ЕС как угрозу для них[44]. При этом самым сильным предиктором негативного отношения к ЕС во всех государствах-членах является чувство европейцев, что интеграция в ЕС угрожает их национальной идентичности[45].
Таким образом, не только «национализм», «сепаратизм», «недовольство властями» побудили жителей Великобритании проголосовать за выход из ЕС. Это была скорее эмоциональная реакция на совокупность системных проблем современного западного демократического общества, чем успешно воспользовались сторонники Брекзита, сумевшие предложить заманчивую альтернативу.
Чтобы лучше понять эмоциональные механизмы, лежащие в основе происшедшего, будет полезным обратиться к теории эффективной и аффективной интерпелляции М. Мандельбаум, включающей три элемента: фантазию, радость и потерю[46]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Брекзит (англ. Brexit: от Britain (Британия) + exit (выход)) – прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с ним процедура.
2
Daily Mail – это вторая после The Sun по величине тиража ежедневная газета в Великобритании.
3
Цит. по: Frosini J.O., Gilbert M.F. The Brexit car crash: using E.H. Car to explain Britain’s choice to leave the European Union in 2016 // Journal of European Public Policy. – 2020. – Vol. 27, N 5. – Р. 768. – URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2019.1676820?journalCode=rjpp20 (дата обращения: 10.02.2023).
4
См., напр.: Фадеева И.А. Дезинтеграционные процессы в странах Европы: причины и влияние на Россию // Фундаментальные исследования. – 2018. – № 4.-С. 125–129. – URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42130 (дата обращения: 10.02.2023); Благовещенский Р.И. Итоги референдума в Великобритании: причины победы евроскептиков //Вестник Московского университета. Сер. 25: Международные отношения и мировая политика. – 2017. – № 2. – С. 105–133. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/itogi-referenduma-v-velikobritaniiprichiny-pobedy-evroskeptikov (дата обращения: 10.02.2023).
5
См., напр.: Seidler V.J. Brexit Futures: a Brexit World’s Anxieties, Fears and Hopes: a Response to Shakuntala Banaji’s "A Review of Victor Seidler’s Making Sense of Brexit: Democracy, Europe and Uncertain Futures" // International Journal of Politics, Culture, and Society. – 2020. – Vol. 33. – Р. 439–448. – URL: https://doi.org/10.1007/s10767-020-09351-x (дата обращения: 10.02.2023); Bhambra G.K. Brexit, Trump, and ‘Methodological Whiteness’: On the Misrecognition of Race and Class // The British Journal of Sociology. – 2017. – Vol. 68, N 1. – Р. 214–232. – URL: https://doi.org/10.1111/1468-4446.12317 (дата обращения: 10.02.2023); Wincott D. Brexit Dilemmas: New Opportunities and Tough Choices in Unsettled Times //British Journal of Politics and International Relations. – 2017. – Vol. 19, N 4. – Р. 680–695. – URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1369148117725316 (дата обращения: 10.02.2023).
6
Худолей К., Еремина Н. Брекзит: новый «старый» выбор Великобритании // Современная Европа. – 2017. – № 3 (75). – С. 28–36. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/brekzit-novyy-staryy-vybor-velikobritanii (дата обращения: 10.02.2023).
7
Spiering M. A Cultural History of British Euroscepticism. – London: Palgrave MacMillan, 2015. – 88 р. – URL: https://link.springer.com/book/10.1057/9781137447555 (дата обращения: 10.02.2023).
8
Geddes A. The European Union and British politics. – London: Palgrave MacMillan, 2004. – 252 р.
9
Кузнецова М.А., Хахалкина Е.В. Процессы трансформации национальной идентичности Британии в контексте Брекзита // Вестник Томского государственного университета. – 2018. – № 53. – С. 53. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protsessy-transformatsii-natsionalnoy-identichnosti-britanii-v-kontekste-brekzita (дата обращения: 12.02.2023).
10
См., напр.: Шибкова М.О. Современный евроскептицизм как вызов европейской солидарности // Вестник МГИМО. – 2016. – № 6 (51). – С. 31–41. – URL: httpss://mgimo.ru/upload/iblock/223/004_shibkovamo_0.pdf (дата обращения: 10.02.2023); Бышок С. Новая Европа Владимира Путина. Уроки Запада для России. – Москва: Книжный мир, 2017. – 620 с.; Фадеева И.А. Дезинтеграционные процессы в странах Европы: причины и влияние на Россию //Фундаментальные исследования. – 2018. – № 4. – С. 125–129. – URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42130 (дата обращения: 10.02.2023)
11
Ананьева Е.В. Брекзит: причины, политический фон, последствия // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2017. – № 10 (6). – С. 110. – URL: https://doi.org/10.23932/2542-0240-2017-10-6-98-119 (дата обращения: 10.02.2023).
12
Там же. – С. 111.
13
Громыко А. «Новый популизм» и становление постбиполярного мирового порядка // Современная Европа. – 2016. – № 6 (72). – С. 6. – URL: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope620160510 (дата обращения: 10.02.2023).
14
Pensiero N. To leave or not to leave? Understanding the support for the United Kingdom membership in the European Union: Identity, attitudes towards the political system and socioeconomic status // Rationality and Society. – 2020. – Vol. 32, N 3. – Р. 267. – URL: https://doi.org/10.1177/1043463120945268 (дата обращения: 10.02.2023).
15
Воробьева Л.М. Британский выбор: с Европой, но вне ЕС // Проблемы национальной стратегии. – 2016. – № 6 (39). – С. 46. – URL: httpss://riss.ru/upload/iblock/a42/p570ih5q6l65x2c9lg9z2k94iiw625th/6262ed8021fd4ea197dc9c85f5ae2860.pdf (дата обращения: 10.02.2023).
16
Там же. – С.
17
Ананьева Е.В., Каневский П.С. Брекзит-1 и Брекзит-2: Британия и США меняют парадигму?: монография. – Москва: Институт Европы РАН, 2016. – С. 33.
18
Robertson J. Brexit Vote May Spark Recession, Mark Carney Warns // BBC News. – 2016. – 12.05. – URL: https://www.bbc.com/news/business-36273448 (дата обращения: 10.02.2023).
19
Цит. по Коданева С.И. Брекзит: сепаратизм, популизм и социальная трансформация британского общества // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2021. – Т. 14, N 1. – С. 100. – URL: https://doi.org/10.23932/2542-0240-2021-14-1-5 (дата обращения: 10.02.2023).
20
Brexit Could Add Two Years to Austerity / Emmerson C., Johnson P., Mitchell I., Phillips D. // Institute for Fiscal Studies. – 2016. – 25.05. – URL: https://www.ifs.org.uk/publications/8297 (дата обращения: 10.02.2023).
21
Valluvan S. Rejoinder: Clamour of Nationalism symposium // Ethnic and Racial Studies. – 2020. – Vol. 43, N 8. – Р. 1459. – URL: https://doi.org/10.1080/01419870.202 0.1740760 (дата обращения: 10.02.2023).
22
Brubaker R. Between Nationalism and Civilizationism: The European Populist Moment in Comparative Perspective // Ethnic and Racial Studies. – 2017. – Vol. 40, N 8. – Р. 1221. – URL: https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1294700 (дата обращения: 10.02.2023).
23
Bergmann E. Populism and the politics of misinformation // Safundi. – 2020. – Vol. 21, N 3. – Р. 253. – URL: https://doi.org/10.1080/17533171.2020.1783086 (дата обращения: 10.02.2023).
24
Sharlamanov K. Populism as Meta Ideology. – Springer Nature, 2022. – Р. 59 – URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-03934-8 (дата обращения: 10.02.2023).
25
Global-Local Tradeoffs, Order-Disorder Consequences ‘State’ No More An Island? / Ed I.A. Hussain. – Springer Nature, 2022. – Р. 267 – URL: https://doi.org/10.1007/978-981-16-9419-6 (дата обращения: 10.02.2023).
26
Sharlamanov K. Populism as Meta Ideology. – Springer Nature, 2022. – P. 193. – URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-03934-8 (дата обращения: 10.02.2023).
27
Sharlamanov K. Populism as Meta Ideology. – Springer Nature, 2022. – P. 201. – URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-03934-8 (дата обращения: 10.02.2023).
28
Sorensen L. Populist Communication in the New Media Environment: A Cross-regional Comparative Perspective // Palgrave Communications. – 2018. – Vol. 4, N 1. – Article number: 48. – Р. 4. – URL: https://doi.org/10.1057/s41599-018-0101-0 (дата обращения: 10.02.2023).
29
De Cleen B., Stavrakakis Y. Distinctions and Articulations: A Discourse Theoretical Framework for the Study of Populism and Nationalism // Javnost – The Public. – 2017. – Vol. 24, N 4. – Р. 308. – URL: https://doi.org/10.1080/13183222.2017.1330083 (дата обращения: 10.02.2023).



