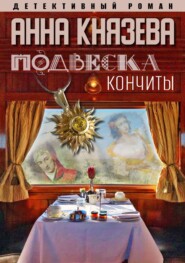
Полная версия:
Подвеска Кончиты
– Дура… дура… дура, – бубнила она, перепрыгивая через лужи и вспоминая про зонт, который остался лежать на стуле в прихожей.
На мгновение ливень затих, но потом обрушился с такой силой, что стало страшно и захотелось забиться в какой-нибудь тихий угол. Впереди по-прежнему маячила отцовская спина, и она была единственным ориентиром в этой нескончаемой круговерти.
Дайнека уже не пряталась от колючих струй дождя, которые особенно больно хлестали по рукам и лицу. Ей хотелось побыстрей оказаться на месте. Падающая с неба вода мощными боковыми ударами колотила о стены вагонов, а сильный ветер раскачивал их, словно пробовал опрокинуть. Рядом с ней бежали промокшие, сгорбленные люди. И только проводники, сопротивляясь порывам ветра, непоколебимо стояли каждый на своем посту.
Перекрывая шум дождя, за спиной раздался звук, похожий на автомобильный сигнал. Дайнека продолжала бежать, справедливо полагая, что на перроне автомобилю не место. Но позади нее снова раздался гудок и взвыла сирена. Обернувшись, девушка увидела большой черный автомобиль.
Расступившиеся пассажиры с любопытством наблюдали непривычное зрелище, на их мокрых лицах играли разноцветные блики сигнальных огней.
Вслед за первой машиной по образовавшемуся коридору проследовала вторая. Сомкнув ряды, пассажиры деловито продолжили путь. Дайнека в панике искала глазами отца. Он тоже ее на мгновение потерял, но, увидев, тут же отправился дальше.
Через минуту ситуация повторилась: мимо проехали еще две машины.
Порыв ветра толкнул Дайнеку в спину, и она заспешила вслед удаляющимся автомобильным огням. А когда добежала до своего вагона, там стояли все четыре машины.
Безумная сутолока закончилась. Финальная картина напоминала кадры американского фильма – когда чрезвычайное происшествие общенационального масштаба притягивает к себе лучшие умы державы. Вспыхивающие проблесковые маячки, застывшие у вагона проводники и незаметные люди в черном, с трудом удерживающие зонты над чьими-то головами.
Ураганный порыв ветра изменил направление ливня и вывернул зонты, превратив их из «грибов» в «лодочки». Очередь у вагона качнулась, но темп ее продвижения был незыблем. Пассажиры один за другим заходили внутрь. В полутьме, посреди мерцающих огней и дьявольской непогоды, все они были похожи как родные братья: мрачные, одинаково неторопливые, мокрые, без багажа.
«Интересные события здесь разворачиваются», – подумала Дайнека, не предполагая, что скоро окажется в самом центре этих событий.
Она обернулась и встретилась глазами с девушкой, которая стояла в темном купе за стеклом. Прямые черные волосы и смуглый цвет кожи делали ее похожей на чужестранку с далеких экзотических берегов. Ровно подстриженная челка, худое лицо со впалыми щеками. Она с тревогой вглядывалась во тьму и, похоже, кого-то ждала. Дверь за ее спиной отъехала в сторону, в проеме появился мужчина. Его голова и плечи четким силуэтом обозначились на фоне ярко освещенного коридора. Девушка вздрогнула, обернулась, через секунду они уже целовались. Она рывком задернула оконную штору.
– Через три дня будешь с мамой, – сказал отец, перекрывая голосом шум дождя.
В эту минуту Дайнека ощутила, как ему хочется шагнуть в вагон и уехать.
– Я тебе позвоню, – пообещала она.
– Звони, буду ждать.
Вячеслав Алексеевич поцеловал дочь, и она последней из пассажиров зашла в тамбур, после чего проводница захлопнула тяжелую дверь.
– Живей, девушка, отъезжаем, ваше купе четвертое.
Дайнека кивнула, но в коридор не пошла. Вернулась к двери и прижалась лицом к стеклу. Вагон дернулся. Перрон уплывал, и ей было нестерпимо жаль отца, стоящего под дождем и удаляющегося вместе с опустевшим перроном.
Послышался голос проводницы:
– Скажи мне, Вера, что происходит? Ни одного свободного места, и все едут до Красноярска. Уж и не помню, когда такое бывало.
– Дураку ясно. Выборы губернатора на носу. Погода нелетная, вот и забегали, – ответила невидимая Вера. – Зато тихо поедем – народ солидный. Видела, сколько охраны?
– Видела. Я ему говорю: «Проходите, мужчина, не загораживайте проход«, а он мне: «Спокойно, придется вам потерпеть». Ну, я сразу поняла, что охрана.
– В пятом и в седьмом купе – точно охрана, они все на одно лицо.
– Ну, стало быть, в шестом какой-нибудь чин едет.
Из маленькой кухоньки слышался звон посуды и потягивало сигаретным дымом. Дайнека прошла в коридор. У окна стоял охранник в черном костюме. Он внимательно проводил ее взглядом.
Пассажиры быстро разошлись по местам. О них напоминали только мокрые следы на парусине, постеленной поверх ковровой дорожки. Все без исключения двери были закрыты. Дайнека попыталась определить, в каком купе находится черноволосая незнакомка. По всему выходило, что во втором. Девушка отодвинула дверь четвертого купе, шагнула внутрь и поспешно закрыла ее, чтобы избавиться от изучающего взгляда охранника. В левом углу сидела светловолосая женщина лет тридцати. Облокотившись на стол, она задумчиво смотрела в окно. Услышав, как открылась дверь, обернулась.
– Ну, вот… – тихо сказала Дайнека.
– Поехали, – отозвалась попутчица, и они любезно улыбнулись друг другу.
По всему было видно, что соседка находится в привычной для нее обстановке. Дорожная легкость общения передалась и Дайнеке:
– Вы до Красноярска? – спросила она.
– Здесь все до Красноярска, – ответила женщина.
– Меня Людмилой зовут, но если хотите, зовите Дайнекой.
– Это что, прозвище такое?
– Фамилия. Мне так больше нравится.
– Интересно… Но мой козырь еще выше.
– Не понимаю, – улыбнулась Дайнека.
– Закаблук… Как вам это понравится?
– Что?..
– Фамилия – Закаблук.
– Здорово.
– Не то слово… Ну а имя обыкновенное – Ирина.
– Очень приятно, – сказала Дайнека, сообразив, что с попутчицей ей повезло.
– Взаимно, – ответила та.
Дверь открылась, и к ним заглянула проводница:
– Чайку перед сном не желаете?
– Желаем, желаем, несите! – воскликнула Ирина.
Проводница ногой оттолкнула дверь и вошла в купе, держа в каждой руке по солидному подстаканнику, в которых плотно сидели стаканы с темным чаем. Поставив их на стол, вышла.
Перемешивая ложечкой сахар, Ирина молча разглядывала золотисто-коричневые вихри внутри стакана.
– Ну и ливень. Я такого за всю свою жизнь не видала. Что-то здесь в Москве не так, если с небес на вас столько воды вылили.
– Скорее на вас… – возразила Дайнека и сама удивилась своей мысли.
– Ты даже не представляешь, насколько точно сказала! – Ирина встала и, уже выходя из купе, заметила: – В такой компании, какая собралась в этом вагоне, можно оказаться только от большого несчастья или от нелетной погоды. Ты переодевайся, а я пойду в душ.
Дайнека вынула из сумки футболку и брюки, осмотрелась, прикидывая, где развесить промокшую одежду. Подняла и встряхнула сброшенную впопыхах куртку, примостила ее на крючок.
За перегородкой, в соседнем пятом купе, кто-то закашлялся.
Переодевшись в сухое, Дайнека достала мамину открытку и положила на стол. Повернулась к двери и увидела себя в зеркале. Короткие темные волосы топорщились мокрым «ежиком», лицо – слишком бледное, в глазах – тревожное ожидание. Как мама узнает в ней, совсем взрослой, ту двенадцатилетнюю девочку?
Волной накатила тоска. Мама… Единственным желанием теперь было увидеть ее и помочь. Помочь, как если бы не она, Дайнека, была дочерью, а мама – слабым, обиженным жизнью ребенком. Мама нуждалась в ней, и это меняло все в их жизни.
Раскат болезненного кашля прервал ее мысли. От этих провоцирующих звуков у Дайнеки самой запершило в горле. Она поморщилась, припоминая, не прихватила ли с собой какого-нибудь лекарства. Протянув руку, чуть приоткрыла дверь и вдруг услышала раздраженный голос, переходящий в шипение:
– Вернись в купе.
Дайнека замерла. Но тут же, еще не определившись, как отреагировать на этот приказ, услышала женский голос:
– Я не твоя собственность, ты не имеешь права.
Невидимая рука задвинула приоткрытую дверь купе. Дайнека отпрянула и услышала, как о перегородку ударилось чье-то тело.
– Скоро все закончится. Обещаю тебе, – произнес мужчина.
Через закрытую дверь Дайнека уловила причитание женщины:
– Чтоб вы все сдохли… Сдохли…
Потом раздался звук удаляющихся шагов, и все стихло.
Переждав несколько мгновений, Дайнека рывком открыла дверь и от неожиданности вскрикнула.
– Что случилось? – обеспокоенно спросила Ирина.
– Просто испугалась, не думала, что здесь кто-то стоит. Простите!
– Сама иногда пугаюсь, – миролюбиво улыбнулась Ирина, заходя внутрь. – Особенно по утрам, когда вижу себя в зеркале. И что самое страшное, – продолжала она, усаживаясь на свое место, – надежды на перемены к лучшему – никакой.
– Да ну… Вы – такая…
– Давай на «ты». Не усугубляй, – попросила попутчица.
– Не буду.
Дождь закончился неожиданно. Ветер стих, когда московские пригороды еще мелькали за окном далекими разбросанными огнями. В купе царил полумрак. Свет был тусклым и переменчивым, он то разгорался ярче, то совсем угасал. Бутылки с минеральной водой позвякивали посреди стола, откликаясь на покачивание вагона и стук колес. С бутылками соседствовали бокалы и ваза с печеньем.
Глядя в окно, Ирина тихо сказала:
– Два часа назад я сидела в зрительном зале и слушала музыку…
Дайнека из вежливости поинтересовалась:
– Оперу?
– Нет. «Юнону и Авось» в Ленкоме.
– Я тебя никогда не увижу…
– Я тебя никогда не забуду, – улыбнулась Ирина.
– История великой любви, – прошептала Дайнека.
– Ты так считаешь? – Ирина взяла печенюшку и сунула в рот.
Дайнека посмотрела на нее с удивлением.
– А как же иначе?
– Я, знаешь ли, журналистка. Журналисты, как и врачи, циники.
– Но ведь они любили друг друга…
– Свидетелей не осталось.
– В каком смысле? – Дайнека оторопела.
– Как было на самом деле, теперь не знает никто. Мой нынешний шеф помешан на этой истории, и мы часто спорим. Я ему говорю: делала сюжет для телевидения, воспоминания читала, свидетельства современников, любовью там и не пахнет. Резанов – опытный дипломат, и его помолвка с Кончитой – то же самое, что династический брак. С ее помощью он шел к своей цели.
– Да не было у него никаких целей! – горячо возразила Дайнека. – Просто встретил и полюбил.
– Идеалистка. Такая же, как Турусов.
– Кто такой Турусов? – спросила Дайнека. – Друг командора Резанова?
Ирина расхохоталась.
– Турусов – кандидат в губернаторы, мой шеф. Я работаю в его избирательном штабе.
– А-а-а-а… – от смущения лицо Дайнеки стало пунцовым.
– Резанов умер и похоронен у нас в Красноярске. Возможно, поэтому многие красноярцы интересуются этой историей. Турусов – не исключение. Именно он финансировал постановку «Юноны и Авось» в краевом драмтеатре и дал денег на памятник.
– На памятник командору Резанову?
– Да. Его установили на месте первого захоронения, там, где раньше стоял Воскресенский собор.
Дайнека наморщила лоб.
– Я не помню, где он стоял, мы уехали из Красноярска лет десять назад.
– Успокойся, – Ирина заулыбалась, – этого ты знать не могла. Собор снесли в начале шестидесятых. В то время ни тебя, ни меня не было даже в проекте. Тогда же, в шестидесятых, гроб с прахом Резанова перезахоронили в другом месте.
– Зачем?
– Не знаю. Документов никаких не осталось. Когда я делала сюжет, нашла одного очевидца и пару статей на эту тему.
– И все-таки я уверена, что они любили друг друга… – вложив в эти слова что-то личное, Дайнека отвернулась к окну.
Не заметив, что ее глаза повлажнели, Ирина возразила:
– Говорю тебе, я всерьез изучала эту историю. И вот что скажу. Николай Петрович Резанов был очень продуманным чуваком. Высокий сановник, действительный камергер русского императора. Командор (и, значит, масон), опытный дипломат. Не многие знают, что, прежде чем попасть в Сан-Франциско к Кончите, он проделал утомительное путешествие. Представь, с ней он встретился в конце марта 1806 года, а путешествие началось в июле 1803-го.
– И где же он был эти три года?
– А ты думаешь, что Резанов только за тем и поехал, чтобы познакомиться с девочкой? – съехидничала Ирина.
– Да нет… Наверное, у него были дела.
– Дела точно были. Государь послал его в Японию договариваться с тамошним императором о торговле. Поплыл Резанов на корабле «Надежда», которым командовал Крузенштерн.
– Иван Федорович?
Ирина удивленно вскинула брови.
– Ого! Да ты молодец.
Дайнека скромно потупилась.
– Давай, рассказывай дальше.
– По дороге в Японию они с Крузенштерном страшно переругались. Против Резанова восстали все офицеры. Дошло до того, что ему объявили матерную войну.
– Как это?
– В общем, ругались на него, матерились. Резанов заперся в каюте и ни с кем не общался. Потом он заболел, но даже врач к нему не пошел. Кто-то из офицеров предложил заколотить дверь каюты гвоздями.
– Неужели заколотили? – изумилась Дайнека.
Ирина вздохнула и поправила волосы.
– Конечно же нет. Но в результате всего этого Резанов отказался идти в Японию, заявив, что не может представлять интересы великой державы, пребывая в таком униженном состоянии. И велел направить «Надежду» на Петропавловск. Там губернатор заставил Крузенштерна и его офицеров принести Резанову извинения, после чего корабль отбыл в Японию. Как видишь, Николай Петрович Резанов был изрядным занудой.
– Скорей – человеком чести, – возразила Дайнека.
– Ты все стараешься приукрасить, – заметила Ирина. – Как раз эта его честь, а также высокомерие помешали наладить торговые отношения с Японией.
– В смысле?
– Так написал Крузенштерн в Санкт-Петербург.
– И это было правдой?
– Сама посуди. По прибытии в Японию Резанову полгода пришлось ожидать аудиенции.
– Почему?
– Столько времени понадобилось посланнику японского императора, чтобы встретиться с русским послом.
Дайнека удивилась:
– Далеко было ехать?
– Нет.
– Тогда почему так долго?
– Чтобы унизить русских и подчеркнуть собственное величие.
– Но японец все же приехал?
– И привез ответ императора с отказом в торговле и требованием, чтобы русский корабль немедленно покинул их гавань. Резанов очень резко ему ответил… – Ирина запнулась, что-то припоминая, и потом с жаром продолжила: – На той встрече присутствовали купцы из Голландии. У них было разрешение торговать с Японией, и они демонстрировали раболепное поклонение местной власти. Некоторые лежали на животе, не смея поднять головы. Резанов же сказал, что он посол государя великой державы и не обучен подобному унижению. В общем, как и написал Крузенштерн, миссия провалилась.
– В этом не было вины командора. Он вел себя с достоинством, заставив уважать нашу страну…
– В то время так думали немногие, большинство просто обвинило его в высокомерии и неуступчивости.
– После этого он поехал к Кончите? – Изнемогая от любопытства, Дайнека приготовилась внимательно слушать.
– Нет. Это был март 1805 года. С ней он встретится только через год. На этом же корабле, на «Надежде», Резанову предстояло отправиться с инспекцией на Аляску, в город Ново-Архангельск, где располагалось русское поселение. Но отношения с Крузенштерном не складывались, и он принял решение покинуть надежный военный корабль и отправился в опасное путешествие на маленьком суденышке под названием «Святая Мария».
– Знаешь, эта история отличается от того, что я слышала, – призналась Дайнека.
– Погоди, – заверила Ирина, – самое интересное впереди! Мало того, что пребывание на корабле само по себе утомительно, напоминаю – Резанов не был опытным моряком и страдал морской болезнью. Прибавь к этому нервное истощение – результат жестких конфликтов с Крузенштерном, и затянувшуюся простуду. Вот и представь, в каком состоянии Резанов прибыл на Аляску, в Ново-Архангельск.
– Да-а-а… – сочувственно протянула Дайнека. – Когда это было?
– В августе1805 года.
– До встречи с Кончитой осталось чуть меньше года.
– Но какой это был год для командора Резанова… – вздохнула Ирина. – Русских поселенцев в Ново-Архангельске он застал в чудовищном состоянии. Многие болели цингой. Худые, голодные, без зубов… Жрать нечего. От цинги не спасал даже отвар из сосновых шишек – единственное доступное им лекарство. Короче… Перезимовал Резанов в русской колонии, перемучился вместе со всеми. И вместо того, чтобы инспектировать, ему пришлось спасать поселенцев от голода и цинги. В общем – от верной смерти. Весной 1806 года на судне «Юнона» он отправился в Сан-Франциско, надеясь закупить там еду. На борту – всякая всячина, чтобы обменять на продукты, и вымотанный, обессиленный голодом и цингой экипаж.
– Ох… – вздохнула Дайнека.
– Теперь – спать, – Ирина встала и, откинув одеяло, улеглась на свое место.
– А дальше?
– Туши свет и ложись. Остальное потом как-нибудь расскажу.
Мужчина в соседнем купе не переставал кашлять. Но даже это не помешало Дайнеке заснуть сразу, как только голова коснулась подушки.
Глава 2
Бухта Сан-Франциско, март 1806 года
Под утро тихий брамсельный ветер[2] передвинул туман с моря на берег. Из-за горизонта пробились первые лучи солнца, разгоняя серую предрассветную мглу.
Вахтенный пробил восемь склянок[3]. Бледные, изможденные лица матросов были обращены к берегу, к диким скалам, крепостным пушкам и узкому входу в бухту, через который им предстояло прорваться – или погибнуть.
Все ждали приказа сниматься с якоря.
На мостике стоял командор. Он поднял подзорную трубу и навел ее на форт, охранявший узкий пролив. Потом обернулся и сказал капитану Хвостову:
– Не будем спрашивать дозволения, ибо положение наше плачевно. Лучше получить ядра в борт, чем пасть жертвой голода и скорбута[4]. Еще немного, и люди начнут умирать. Заходим в бухту, даже если будут палить. Ставьте паруса, Николай Александрович. С Богом!
Капитан тут же отдал приказ:
– Ставь паруса! Живо!
По палубе затопали десятки ног, и скоро каждый матрос был на своем месте. Паруса покрыли мачты и реи, корабль задрожал, тронулся и, набрав полный ветер, двинулся в гавань.
Хвостов вернулся на мостик и доложил командору:
– Скорость – восемь узлов. Если так пойдем, можем проскочить незамеченными, удалиться на безопасную от пушек дистанцию и там встать на рейд.
Чем ближе был форт, тем пристальней смотрел на него командор. Никакого движения. В предутренние часы караульные спали особенно крепко.
Когда нос корабля уже готов был вклиниться в узкий пролив, скорость резко упала. При наполненных парусах судно встало на месте.
Командор обеспокоенно взглянул на Хвостова.
– Отлив начался, – объяснил тот, поднял трубу и посмотрел в сторону форта. Потом тихо добавил: – Сильное течение, сударь. Вода уходит из бухты.
Тем временем вставало солнце, постепенно заливая светом снежную вершину прибрежной горы. Командор снял шляпу и крепко стиснул ее пальцами. Теперь было ясно: малая скорость не позволит судну зайти в гавань, воспользовавшись предрассветными сумерками и временным неведеньем горизонта.
Корабль лавировал, борясь с сильным течением из залива. Медленно и настойчиво пробирался он к «воротам». Теперь каждый матрос мог разглядеть форт с амбразурами, из которых торчали черные жерла пушек.
И вот уже раздался пронзительный звук трубы, а вслед за ним – бой барабана. На берегу показались несколько всадников. Проскакав вдоль воды, они остановились на крайней точке губы. Один из них крикнул в рупор по-испански:
– Кто такие? Что за корабль?
Хвостов глянул на командора, тот кивнул. Капитан приставил ладони ко рту:
– Русские!
Офицер во весь опор помчался назад в крепость. Остальные стали махать ружьями и руками, делая знаки, чтобы корабль повернул назад или немедленно бросил якорь.
Крепостные пушки задвигались, направляя стволы на русский корабль. Стоящие рядом солдаты громко кричали и трясли зажженными фитилями.
– Только вперед! – приказал командор и добавил чуть мягче: – Не подведи, Николай Александрович.
Хвостов отдал честь и кинулся к юту[5]. Скоро по палубе забегали даже те, кто из-за болезни уже с трудом стоял на ногах. Одни бросились к парусам, другие начали громыхать якорной цепью. В форте, очевидно, решили, что корабль подчинился приказу, и несколько успокоились, ожидая, когда матросы закончат маневр.
Одновременно с этим сила отлива резко уменьшилась, судно прибавило скорости и вклинилось в узкий пролив, зажатый между двумя губами. На одной из них стоял форт, на другой не было никаких признаков жизни. Прямо по курсу простиралась спокойная гладь бухты.
– Скорость – девять узлов, – капитан тоже снял шляпу, вытер со лба пот и, поклонившись в сторону форта, что было сил прокричал: – Си, сеньор! Си, сеньор! Си! – единственное, что знал по-испански.
Испанцы в замешательстве наблюдали за тем, как русский корабль стремительно вторгается в бухту.
Спустя некоторое время капитан Хвостов доложил командору:
– Удалились от форта на пушечный выстрел. Теперь – в безопасности!
Командор указал на берег, по которому скакали всадники в ярких развевающихся плащах и широкополых шляпах.
– Впредь будем смелей. Конница сия теперь под нашей картечью.
– Господь даст – стрелять не придется.
– Слышать бы ему ваше слово, Николай Александрович, – сказал командор. – Прикажите отдать якорь.
Между тем на пологом берегу уже собралось более двадцати конников. Вместе с ними прибыл тучный монах в сутане черного цвета, подол которой свисал ниже стремян. Солдаты возбужденно трясли ружьями. Старший офицер кричал – требовал шлюпку и чтобы в ней непременно прибыл переговорщик.
Командор приказал:
– Мичман Давыдов, сношения[6] с испанцами вам поручаю. Скажете, шли в Монтерей. Жестокие бури, повредившие судно, принудили нас взять убежище здесь, в первом порту. Как только починимся, тотчас продолжим наш путь.
– Помилуйте, Николай Петрович, на испанском говорить не обучен!
– В помощь вам придаю доктора Лансдорфа. Меж солдатами на берегу мною замечен монах. Авось на латыни договорятся. Об истинной цели – ни слова. Держитесь весьма достойно. Помните, мы представляем здесь великую нашу державу!
Шлюпку спустили на воду, туда спрыгнул Давыдов, одной рукой придержал шпагу, другую подал Лансдорфу. Одетый в длинный сюртук, доктор с присущей ему осторожностью сполз вниз и сел на скамью. Матросы навалились на весла, и шлюпка пошла к берегу.
Взошло солнце, сделалось жарко. С берега долетел благоухающий запах леса и трав. Командор скинул плащ и, оставшись в мундире, приблизил к лицу трубу. Проводил взглядом шлюпку, стал осматривать берег.
В сравнении с Лансдорфом и Давыдовым, испанцы представляли собой весьма живописную группу. Но даже среди них выделялся молодой офицер: в огромном сомбреро с золотистыми кисточками, ярком плаще и сапогах с сияющими на солнце шпорами.
Встречая посольство, всадники спешились, и все, включая монаха, поспешили к воде.
Шлюпка ткнулась в песок, матросы спрыгнули в воду и вытянули ее подальше на берег. Давыдов и Лансдорф сошли, не промочив ног. Испанцы сняли шляпы, Давыдов приветственно козырнул.
Монах-францисканец выступил вперед и заговорил по-испански. Его слова не были поняты. Лансдорф попробовал по-французски, однако договориться не удалось, испанцам был неведом этот язык. Как и предположил командор, на помощь подоспела латынь. Когда Лансдорф заговорил на латыни, монах сделал знак, что все понимает.
Доктор продолжил:
– Посланник российского императора, действительный камергер двора Николай Петрович Резанов и мы, его сотоварищи, просим гостеприимства. Жестокие бури привели судно в негодность на пути в Монтерей. Исправив его, мы будем готовы снова отправиться в путь.
Монах перевел офицеру. Тот поднял брови и экспрессивно закивал. Присутствие на борту корабля такой высокой особы произвело на него должное впечатление.
– Дон Луис Аргуэлло, – молодой офицер представился сыном коменданта президио[7] и сообщил, что сам комендант нынче в отъезде. Отец рассказывал про бумагу, которую ему довелось видеть у губернатора в Монтерее. В ней, в этой бумаге, говорилось о возможном прибытии в Сан-Франциско русского камергера.
В продолжение разговора дон Луис просил Резанова оказать великую честь: посетить дом губернатора и отобедать вместе с его семьей.
Любезно пообещав передать приглашение, Давыдов приказал матросам столкнуть шлюпку в воду и, дождавшись, пока Лансдорф займет свое место, влез туда сам.
Возвращаясь к «Юноне», шлюпка запрыгала по волнам.
Глава 3



