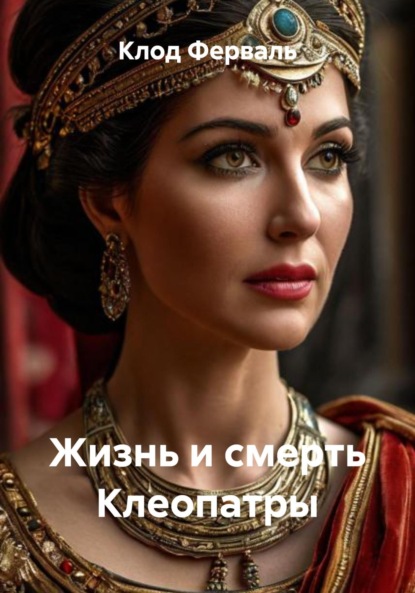
Полная версия:
Жизнь и смерть Клеопатры

Клод Ферваль
Жизнь и смерть Клеопатры
Жизнь и смерть Клеопатры.
Клод Ферваль.
Под псевдонимом «Клод Ферваль» скрывалась писательница Маргарита Тома-Галлин, и именно она является автором этого романа о Клеопатре. Маргарита Тома-Галлин (Marguerite Thomas-Galline, 1856–1943) – французская писательница.
1. Юлий Цезарь.
Был около седьмого часа. На запруженных набережных Александрии матросы заканчивали разгружать свои товары. Быстро, словно запоздалые птицы, рыбацкие лодки возвращались в старые бассейны порта Эйноста. Ночь была почти полной, когда последняя лодка украдкой скользнула к причалу. Из неё сошел человек, широкоплечий, закутанный в темный плащ, с дорожной шапкой, надвинутой до ушей. С бесконечными предосторожностями он помог сойти на берег женщине, столь юной, столь гибкой, что её можно было принять за ребенка.
Но, хотя ей едва минуло семнадцать лет, можно ли, однако, сказать, что Клеопатра была ею? Замужем уже два года за братом, которого династический закон навязал ей после смерти их отца, отвергнутая этим вероломным соправителем, отправленная в изгнание и вернувшаяся в этот вечер под защитой Аполлодора, она обладала, во всяком случае, жизненным опытом, совсем не обычным для этого возраста. Можно даже спросить, какие впечатления, сходные с теми, что формируют обычное детство, могла получить при развращенном и бесхитростном дворе дочь Птолемея Авлета, того удивительного короля-дилетанта, который против беспорядков революции и иностранного вторжения умел противопоставить лишь упрямые звуки своей флейты. Как бы то ни было, происходя из рода, излишне утонченного, сама вся пропитанная искусством и литературой, проникнутая серьезными науками, несомненно, что эта отроковица вступала в жизнь с редкой преждевременной зрелостью. В то время как другие, лишь недавно покинувшие гинекей, еще любят добродетель или мечтают о легкомысленных удовольствиях, у неё уже был вкус к тому, чтобы обольщать и властвовать. Свободный от всяких предрассудков, её ум смело смотрел на вещи прямо; она не игнорировала, чего стоят мужчины, и прилагала, чтобы использовать их или понравиться им, душу умную, живую и осведомленную.
Как только в глубине Фиваиды, куда по совету смутьяна Потина царь сослал её, она узнала, что Юлий Цезарь вошел в Александрию, одним из тех предчувствий, какие иногда бывают у сверхчувствительных натур, она поняла, что к ней пришло нежданное счастье. Но как добраться до великого человека? Какими средствами добиться от его всемогущества помощи, которая из пленницы сделает её царицей? Греческий ученый Аполлодор, бывший её учителем риторики и оставшийся ей верно преданным, вступил в переговоры. Цезарь уже при первой беседе показал себя благосклонным к молодой гонимой женщине, скорее чем к Птолемею и его коварному министру, и она не колебалась. Как бы строго она ни была под надзором, как бы ни были ненадежны дороги, кишащие тогда разбойничьими и убийственными шайками, в сопровождении лишь двух рабов, она бежала и по Нилу поднялась до Канопа, где её ждал Аполлодор. Опираясь на эту твердую преданность, она была уверена, что достигнет своей цели. Переправа, однако, не обошлась без риска. Выбранная нарочно среди самых скромных, чтобы не привлекать внимания, утлая рыбачья лодка чуть не поглотила их. И какая же радость, какая отрада вновь обретенного благополучия, когда под своими трепетными маленькими ногами юная Лагидка почувствовала почву своей столицы, милой Александрии, которую она по праву рождения считала своей собственностью.
Теперь предстояло добраться до дворца, и это было не самым легким. Несмотря на римскую оккупацию, солдаты, агенты египетского царя зорко следили повсюду. Узнанная, Клеопатра снова попадала во власть своего брата.
Аполлодор, к счастью, не был лишен ни хитрости, ни силы. С заботой, подобающей столь драгоценному предмету, он закутал беглянку, скрыв её очертания в сверток одеял, и, как простой тюк, взвалил её на свои плечи. Видя, как по набережной шагает этот носильщик, нагруженный, по-видимому, как и многие другие, кто мог бы заподозрить тайну его ноши? В Брухиуме его знали. Когда он объявил, что, повинуясь воле Цезаря, принес ему ковры, стража пропустила его.
Юлий Цезарь был тогда уже не молод. Все, что жизнь может дать славы, власти, наслаждений, он получил от неё, и его нервный организм, казалось, временами был этим истощен. Преждевременно облысевший лоб, лицо, изрытое морщинами, выдавало эту усталость; но при малейшем волнении сверкающий блеск взгляда тут же это опровергал. Нельзя было приблизиться к божественному Юлию, не испытав сразу же его влияния, не почувствовав то нечто величавое и в то же время столь обаятельное, что, чтобы объяснить его, возводили его предков, через Энея, к самой Венере. Если он говорил, его любезные жесты, гармоничный акцент его голоса привлекали к нему симпатии собеседника ничуть не меньше, чем его слова. Молчал ли он? его молчание было красноречиво, ибо вспоминали речи, памятные слова, которые, изливаясь из его гибких уст, находили отзвук во всем мире. Где бы он ни был, его окружал орелон его подвигов. Его не только представляли во главе своих легионов, ведущим их от одного конца до другого той Галлии, что победа сделала его владением; не только видели, как через альпийские теснины он вновь спускается в Италию, одним решительным прыжком переходит рубикон и обрушивается на мятежный Рим, который, едва этот укротитель появился, покорно ложился у его ног; но легенда уже завладела им. Германцев, которых он победил, изображали как исполинов с гибельным взором; рассказывали, что Британия, куда он первый отважился проникнуть, погружалась во тьму на три месяца, что её населяли призраки, и все эти вымыслы, прибавленные к реальным победам, делали их еще более чудесными.
Обращаясь к такому человеку, приходя просить у него помощи и поддержки, Клеопатра, без сомнения, рассчитывала на свою правоту, но она не была так наивна, чтобы верить, что лучший шанс для женщины добиться справедливости – это всегда быть правой. Едва выбравшись из мешка, где целый час её прелести были заточены, она сделала несколько прыжков, словно молодое животное, вновь обретшее свободу, затем с чисто женской поспешностью схватила маленькое зеркальце из потемневшего серебра, висевшее на цепочке у её пояса. Сколько повреждений она констатирует! Её тонкая льняная туника совсем помята; её растрепанный пучок распустился, и каштановые волны её волос рассыпались по шее; ни атома сурьмы вокруг её глаз, ни румян на её губах, на её щеках не осталось. Но, столь простая, украшенная одной лишь своей юностью, разве она от этого менее свежа? менее выразительна? менее волнующа, эта восхитительная просительница, которая через мгновение окажется перед своим судьей? Однако она тревожится, она спрашивает себя, как примет её человек, привыкший к ухищрениям римлянок, властитель, которому все, самые добродетельные так же, как и самые развращенные, старались понравиться. Ибо слава Цезаря переплыла моря. Известно, что, будучи великим полководцем, писателем, правоведом, оратором, он столь же был и распутником. Помимо кутежей, обычных для всей молодежи, кои он широко практиковал в кругах, предававшихся галантным утехам, известно, что его проделки вносили смятение во многие семьи, не исключая и семьи его лучших друзей; и не в хорошем смысле к его имени прилагали эту эпитет: omnium mulierum vir – муж всех женщин.
Однако Клеопатра напрасно тревожилась. Какую картину могла запечатлеться в душе, жаждущей нового, самобытного, необычайного, и на нервах, пресыщенных, как у императора, живее, чем вид её царственной юности? С первого же мгновения, как только он созерцал ритмичную и, можно сказать, музыкальную грацию её тела, её маленький лоб, почти прямой линией переходящий в переносицу, её зрачки, в которых плавало золото, её тонкие, словно крылья, ноздри, её полуоткрытые, чувственные губы, и особенно её кожу, эту сияющую, цвета янтаря кожу, которая наводила на мысль о каком-то прекрасном солнечном плоде, его пронзила невыразимая дрожь. Никогда, нет, никогда Запад, даже Рим, со своими пламенными девами, со своими пикантными и опытными матронами, не предлагал его желанию ничего столь восхитительного. И готовый всё предоставить, чтобы всё получить, он спросил:
– Чего ты хочешь? Какое из твоих желаний я могу исполнить?
С очаровательной лестью молодая женщина ответила на латыни, которую она знала так же легко, как греческий, египетский, сирийский и несколько других наречий. Она изложила злоупотребление властью, жертвой которого стала, ту несправедливость, которая превратила её в бедную странствующую принцессу, и с видом полного доверия, делавшим её неотразимой, призналась, что рассчитывает на всемогущество Цезаря, чтобы вернуть себе корону.
Её голос был мягким, вкрадчивым; вещи, которые она говорила, её притязания против её брата-узурпатора становились, едва она их высказывала, неоспоримыми истинами. Как, по крайней мере, они могли не показаться таковыми галантному судье, на которого её восхитительные черные глаза опускались, словно лучи светил?
Он тут же почувствовал нежное желание исполнить её просьбу. Но возникали трудности. Прибыв в Египет как друг, он располагал здесь лишь небольшим количеством войск. Войска же Птолемея, напротив, были многочисленны и полны решимости защищать своего царя. Благоразумие предписывало ничего не предпринимать сгоряча. Но это никак не устраивало ту, чья поспешность в стремлении захватить власть имела стремительность весенних потоков. Обнаружив живость и полемический задор, неожиданные у столь юного существа, Клеопатра принялась передавать свой пыл Цезарю. Если он не может немедленно начать за неё кампанию, то пусть как можно скорее созовет свои легионы, а в ожидании их прибытия провозгласит её единственной и полноправной государыней.
Пока она говорила, взгляд императора не отрывался от неё; он следил за каждым её движением, похожим на волны, и за изысканным изгибом её губ. Какая восхитительная любовница она будет! – думал он, вдыхая аромат её волос.
И, угадывая его побежденным, готовым на любое согласие, Клеопатра чувствовала, как в неё проникает эта упоительная уверенность: Вскоре я буду царицей.
Узнав, что сестра, от которой он считал себя избавившимся, вернулась в Александрию и что Цезарь поклялся восстановить её на троне, Птолемей 14-ый пришел в одну из тех безумных яростей, которым был подвержен этот отпрыск выродившегося рода. – Предательница! – воскликнул он, разбивая ногой прекраснейшую мурринскую вазу, – она посмела обмануть меня! Третейский суд, на который она имела наглость ссылаться, – не что иное, как отвратительное вероломство! И, поставив Ахиллу во главе своих войск, он велел перебить римскую стражу.
Это стало началом войны, которая продлится два года. Имея за собой все силы Республики, было очевидно, что Цезарь должен победить; но начало, состоявшее из стычек и мятежей, для подавления которых его солдаты не были привычны, оказалось трудным. Чтобы не подвергаться далее уличным боям, где он не всегда имел преимущество, защитник Клеопатры счел благоразумным запереться со своим гарнизоном за стенами Брухия, который мог, в крайнем случае, служить цитаделью, и, в ожидании обещанных легионов, выдержать там осаду.
Быть пленницей вместе с человеком, которого она обещала себе околдовать до тех пор, пока у него не останется иных интересов, кроме её собственных, – каких еще более благоприятных условий могла бы желать молодая женщина? Начатый при Александре и последовательно расширявшийся каждым из его преемников, которые – подобно фараонам, но с более утонченным вкусом – имели страсть к строительству, Брухий был не просто дворцом. На возвышенности, в том месте, где холмы, тянущиеся вдоль побережья, понижаются к морю, его многочисленные постройки образовывали нечто вроде отдельного города, огромный царский квартал невиданного разнообразия и роскоши, где образцы массивной египетской архитектуры смешивались с изящными антаблементами греческого искусства. Часть, в которой жила Клеопатра, была специально обустроена Птолемеем Авлетом, желавшим обеспечить своей любимой дочери достойное её обрамление. Этот музыкант, ценитель всего редкого и прекрасного, столь же чувствительный к чистоте линий, как и к чистоте звуков, стремился обогатить её тем, что человеческие руки создали самого совершенного. Нельзя было сделать и шага, не встретив драгоценные творения Мирона, Праксителя, Фидия, тонко вырезанные канделябры, стулья изящных очертаний, ларцы из слоновой кости, тяжелые от инкрустаций, золотые треножники, на которых сжигались редкие благовония, и повсюду, в изобилии, ковры с узорами, переплетенными словно сны. Не было ни одной комнаты в этой роскошной обители, которая не радовала бы взор игрой цвета и формы, где не чувствовалось бы, что всё сочетано для благородной радости жизни.
Но истинным чудом, превосходящим всё, и какого нельзя было встретить под другим небом, кроме египетского, были сады. Открытые морским бризам, там было восхитительно дышать. Террасы сменяли террасы, соединенные между собой широкими мраморными лестницами и пересеченные фонтанами с хрустальной водой. Под влиянием этих вод, проведенных из Нила по акведуку, растительность достигала исполинских размеров, будь то зелень, доставленная с большими затратами из более умеренных регионов, или же смоковницы и пальмы, живущие в зное. Цветы росли повсюду в изобилии; особенно розы, привезенные из Персии в таком количестве, что даже клумбы Экбатаны показались бы бедными рядом с теми, что благоухали под окнами царицы.
Как же сын Венеры, которого политическая необходимость так часто увлекала в холод варварских стран, мог не ощущать до опьянения новизну такого пребывания? Казалось, всё здесь было устроено так, чтобы способствовать некоему исключительному блаженству, и больше всего – существо, полное грации и юности, которое было его верховным цветком. Он полюбил её с первого же ведра той пламенной, безраздельной страстью, что подобна небесному пожару, когда лето подходит к концу и деревья за несколько дней становятся ярче, пышнее, чем были за весь сезон.
Она же позволила себя полюбить. Лишения, изгнание, страх перед жестоким обращением подготовили её ко многим уступкам. Не исследуя природу чувства, которое бросало её в объятия Цезаря, даже не замечая примеси расчета, она вся отдалась радости своего успеха. И сколько раз, поразмыслив, она должна была радоваться, что, ища в нем лишь защитника, нашла сверх того самого влюбленного, самого деликатного из любовников! В безопасности на крепком корабле, на который он вознес её рядом с собой, она отдавалась его могущественной опеке, предавалась ей, как силе, чьи составные части не разберешь. Если она и не волновала тайных источников его существа, любовь великого человека наполняла её такой гордостью, пробуждала в ней столь великолепные надежды, что её сердце забывало об отсутствии взаимности. Мечтательница о прекрасном будущем, она наслаждалась, чувствуя себя унесенной к неведомым судьбам, которые, с таким кормчим, как Цезарь, не могли не быть славными.
Хотя и омраченные грохотом катапульт и падением снарядов, которыми осаждающие осыпали стены Брухия, дни, которые влюбленные провели там в заточении, были восхитительны. Видя лишь друг друга, имея главной заботой, постоянным занятием – нравиться друг другу, осыпать друг друга ласками, они полностью осуществили мечту об уединении вдвоем, которую столько свободных пар тщетно преследуют.
Однако подкрепления, которые призвал Цезарь, начали откликаться. Киликийцы, родосцы направляли к Александрии корабли, груженные припасами, которые проход, оставшийся в власти осажденных, позволял доставлять к ним; хорошо обученную пехоту предоставила Галлия; Рим прислал вооружение, и, под командованием Кальвина, кавалерия наконец завершила численность. Осада, длившаяся более шести месяцев, была тогда снята, и война переместилась в открытое поле. Армия под командованием Ахиллы была не столь незначительна, как можно было предположить. Несколько раз умелые маневры ставили Цезаря в затруднительное положение. Однако то, что должно было случиться, – ибо на его стороне были численность и римская доблесть, – произошло в тот день, когда на равнинах Дельты он смог развернуть свои когорты. Было дано решительное сражение, и разбитые, опрокинутые, сброшенные в Нил, птолемеевы bandes были уничтожены. Сам царь, в момент, когда на импровизированной плотине пытался переправиться через реку, нашел там смерть. Более милосердный, чем судьба, Цезарь даровал жизнь Ахилле, которого привели к нему закованным в цепи. Он удовольствовался требованием формальной капитуляции и галопом помчался обратно в Александрию.
На седьмом этаже башни Клеопатра ждала. Как только среди пыльного облака она увидела блеск орлов, её сердце забилось чаще. Не в силах сдержать счастливого нетерпения, она велела подать свои носилки:
– И бегом! – приказала она носильщикам, двенадцати эфиопам, чьи бронзовые ноги тут же помчались по дороге.
По золотому ястребу, парившему над её кровлей, и пурпурным занавесям, в которые они были завернуты, царские носилки узнавались издалека. Как только их приближение было замечено, Цезарь соскочил с лошади и с нежным почтением, составлявшим манеру его галантности, приветствовал свою возлюбленную. Он не видел её несколько дней и горел желанием выразить ей свою любовь.
– Египет твой, – сказал он ей, – я покорил его лишь для того, чтобы положить к твоим ногам. Вот он. И одновременно он поднес ей ключи от столицы, которые Ахилла, сдаваясь, должен был передать.
Познав отныне всю тяжесть римской воли, мятежники осознали, в какое безумие вверг их Потин. Насколько они были надменны прежде, настолько же сломлены и принижены были теперь. Они ожидали репрессий, но были лишь амнистии. Кто бы стал оспаривать царицу, которую навязывал столь великодушный победитель? При первом же её появлении на публике её приветствовали так, как будто её присутствие исполняло заветное желание всех сердец.
Благодаря thus этой войне, которая велась ради неё, из любви к ней, Клеопатра вновь обрела корону своих предков. Однако, чтобы завершить завоевание общественного мнения, она вторично подчинилась древнему династическому обычаю, требовавшему, чтобы дети одного отца разделяли верховную власть, и приняла в супруги своего младшего брата Птолемея 15-го.
И вот, когда всё было устроено наилучшим образом, Цезарю оставалось лишь покинуть Египет и вернуться в Рим, куда его призывали сторонники. Но Цезарь больше не принадлежал себе. Всецело охваченный страстью, которая до конца его жизни будет вдохновлять все его поступки, ставить выше долга, честолюбия, даже интересов и способствовать его гибели, он откладывает свой отъезд. Закрывая уши для предостережений, которые приносил каждый гонец, он слушает лишь дорогую искусительницу, которая ко всем очаровательным чарам, уже использованным ею, чтобы удержать его, добавляет предложение совершить путешествие.
В ту эпоху, как и сегодня, плавание вдоль берегов Нила, где и поныне выстроились следы древней славы фараонов, было изысканным удовольствием. Многие богатые патриции, восточные принцы, художники из Малой Азии и Греции, пресытившись увеселениями Александрии, поднимались на борт одного из этих увеселительных кораблей, именовавшихся канже или таламеги, и в течение недель, под вечно ясным небом, предавались сладостной неге отдыха.
Канже, на которую Клеопатра пригласила Цезаря, был подлинным плавучим дворцом. Роскошные покои Брухия были воссозданы в нём в миниатюре, а множество следовавших позади таламег позволяло взять с собой целый штат прислуги – не только слуг, но и танцоров, музыкантов, поэтов, призванных услаждать досуг высоких особ.
Стояло начало зимы – пора, что в иных краях погружает всё в унылый иней, когда луга облачаются в траур, а бедные, зябкие деревья мечутся в отчаянии. Но ничего подобного не было на безмятежной и синей глади, по которой плыли наши путешественники. Уносимые ритмичными взмахами вёсел, на которые налегали пятьдесят нубийцев, они плыли, опьянённые свободой, наслаждением и простором, к некоей Земле Обетованной, что на каждой остановке дарила им всё более щедрую дань солнца.
Внезапно, после зелёного волшебства первых дней, растительность поредела. Канже скользил меж оголённых берегов. Пространство, песчаное до самого горизонта, представляло собой череду сухих холмиков, словно серебряные завитки, таявшие в мареве. Едва ли кое-где встречались пучки алоэ, размахивавшие своими острыми мечами, или султаны финиковых пальм, которые в сухости воздуха казались гигантскими факелами, готовыми вспыхнуть. По мере приближения к Мемфису строений становилось больше: храмы с приземистыми колоннами, дворцы ослепительной белизны, пилоны мощные, как горы, приходили посмотреть на свое отражение в реке. Напротив пирамид путешественники остановились. Неимоверный труд, воздвигший эти гробницы, поражал разум Цезаря. Он, будучи учеником Платона, придававший мало значения телу и веривший, что для достижения бессмертия надо полагаться лишь на красоту, исходящую из разума, любви и высоких деяний души, спрашивал себя, какие мысли о смерти обуревали мозг Хеопса, Хефрена? Считали ли они её истинной жизнью, а эту – лишь переходом? Воздвигали ли они ей храмы? Или, негодуя на её разрушения, их гордыня из противления воздвигла против неё эти грозные треугольники?
Среди столь многих странных фигур, населяющих равнины Мемфиса, большой сфинкс в Гизе уже тогда привлекал любопытство. Клеопатра мельком видела его издали во время своего бегства и нашла забавным измерить перед Цезарем свою грацию и малость рядом с ним. В час, когда они приблизились к нему, солнце заканчивало свой путь за ливийскими холмами. На своем песчаном ложе чудовище словно возникало из неведомого бесконечного берега, из какого-то застывшего океана. В то время как его загадочное лицо, обращенное к востоку, было уже покрыто тенью, его рыжая спина собирала последние лучи света, которые делали её словно живой. Вспомнив then того другого сфинкса, которого, встревоженный своей судьбой, Эдип однажды вопрошал, не пришла ли мысль у диктатора, перед которым будущее тоже было туманно, задать и этому какой-нибудь вопрос? Получил ли он ответ? Тайна! Но, трепеща, как он и был, от соприкосновения с молодой плотью рядом, глядя на багровую луну, вдыхая волнующую душу ночи, если ему и был подан какой-то мудрый совет, он едва ли был в состоянии его услышать. Любовь в нем говорила слишком громко.
На тридцатый день своего плавания влюбленные прибыли к Филам. Эта жемчужина, оправленная в двойную лазурь атмосферы и воды, столь чистых, столь прозрачных, что задаешься вопросом, которая из них является зеркалом другой, во все времена вдохновляла поэтов. Те, кто однажды ступил на её порог, розовый, как раковина, не уставали воспевать её райскую мягкость. Остановиться там, разбить свой шатер, забыть в служении красоте всё, что elsewhere её оскорбляет или затемняет, сразу же становилось мечтой художественных натур; но немногие осуществляли её. С самой глубокой древности ограниченная территория острова принадлежала жрецам Исиды, которые неохотно уступали место профанам. Хранители храма, который благочестие верующих сделало самым богатым в Египте, эти слуги доброй богини не желали, чтобы их тревожили в каких-либо их привилегиях; они особенно намеревались делить лишь между собой пребенду, не имевшую себе равных.
Как это часто бывает в святилищах, где забота о божественном не заставляет забывать о благах земных, прибытие государей было воспринято как дар судьбы. Лодки, груженные музыкантами, спустились на несколько стадий им навстречу, и на берегу их ждала процессия жрецов с песнопениями. Пришлось отправиться в храм, выслушивать речи, принимать депутации, подношения. В знак благодарности были принесены в жертву козы, лилась кровь голубей.
После этого приема официального характера, которого невозможно было избежать, Клеопатра выразила пожелание, чтобы её и Цезаря оставили одних, свободных от всякой торжественности, как того требовала их прихоть. В жаркие часы они оставались внутри портиков, где фонтаны поддерживали некоторую прохладу, либо беседуя, глядя, как распускаются синие, белые, розовые чашечки лотоса, либо погруженные в сладкую дремоту, где заботы, планы, честолюбивые замыслы – всё, казалось, было забыто. Однако юная царица не упускала из виду тайную цель этого путешествия, которая заключалась в том, чтобы неизгладимыми впечатлениями привязать к себе великого покровителя и сделать ему дорогим Египет. Вечером, когда вместе они вдыхали у края аллей тропические фиалки, источающие медовый запах, или, углубляясь в заросли, чьи ветви, склонившиеся над их головами, осыпали их золотой пылью, она с детским испугом отвечала на комплименты, которые он ей расточал: «Да, без сомнения, моя страна – прекраснейшая в мире, но как трудно ею управлять!» А он, тронутый, чувствуя её такую хрупкую у своей руки, спешил пообещать постоянную, могущественную поддержку своего отечества.

