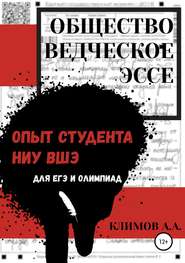 Полная версия
Полная версияОбществоведческое эссе. Опыт студента НИУ ВШЭ
Обобщим изложенное: обществу необходим какой-либо ориентир, совокупность норм и ценностей, позволяющих давать каждому событию определённую оценку с позиции «хорошо» и «плохо». Маркс прав: идеология служит отличным инструментом для выполнения этой задачи, однако в недобросовестных руках это орудие превращается из цели в средство манипуляции сознанием, открывая пути для узурпирования власти недобросовестными политиками. К счастью, современное общество выработало достаточно мощный механизм недопущения замены истинного сознания на ложное. Задачей последующих поколений является сохранение и развитие тех идеологий, в основе которых лежат общечеловеческие гуманистических ценности. Выполнение данной обязанности является основой процветания всего человечества.
ЭССЕ 13.
«Общество готовит преступление, а преступник его совершает»
Томас Бакла
Проблема девиантного поведения, которую затрагивает автор данного изречения, является одной из ключевых в социологии. Длительное время учёным не удавалось установить природу этого явления, однако, несмотря на уже значительно прояснившуюся ситуацию, и по сей день споры в среде общественных исследователей о девиации не умолкают. Справедливо ли обвинять в причинах совершившегося противоправного действия общество? Лежит ли ответственность за преступление целиком на индивиде?
Первая серьёзная попытка объяснения природы девиантного поведения принадлежит австрийскому врачу-психиатру Чезари Ломброзо. С его точки зрения причиной отклонения от общегрупповых норм и ценностей являются особые биологические предпосылки, характерные для лиц, совершивших противоправные деяния. Похожая мысль нашла своё отражение в теории американского психолога Уильяма Шелдона, согласно которой три особых типа биологической конституции – эндоморф, мезоморф и эктоморф – в разной степени являются причиной девиантного поведения. Однако физиологический подход, представленный именами вышеприведённых учёных, истинен лишь отчасти. Девиантное поведение – понятие куда более широкое, относительное, включающее в себя преступления только как один из видов отклонения от общепризнанных норм и ценностей. Теория Чезари Ломброзо и Уильяма Шелдона описывает определённые черты характера (агрессивность, раздражительность, вспыльчивость) и типологию биологических конституций как возможные причины совершения насильственных действий, считающихся в данном обществе противоречащими закону. Австрийский психиатр и американский психолог не учитывают другие виды девиации, объяснение которых не может быть сведено к чисто биологическим особенностям.
В социологии объяснение девиации носит дуалистический характер: с одной стороны, мы имеем функционалистский подход, рассматривающий девиацию как отклонение от норм, признаваемых всем обществом, с другой – конфликтологический подход, описывающий девиацию как результат деятельности правящих группировок, чья активность является причиной отклоняющегося поведения индивида. Теория аномии, изложенная Эмилем Дюркгеймом и – специфически – Робертом Мертоном объясняет девиантность особым состоянием общества в результате рассогласования терминальных ценностей (целей) и инструментальных ценностей (средств). Американский социолог создал определённую типологию отклоняющегося поведения в зависимости от согласованности и рассогласованности целей и средств. К примеру, бунтарь – один из типов девиантности по Роберту Мертону – характеризуется как создатель новых ценностей, руководствуясь собственными целями и средствами. К таким личностям могут быть отнесены любые революционеры, чьё поведение соответствует критериям американского социолога. Интересно выделить особое значение бунта как средства утверждения собственного бытия – такой точки зрения придерживался французский философ-экзистенционалист Альбер Камю, точка зрения которого нашла своё отражение в труде «Бунтующий человек». Мятеж как вид девиантного поведения, направленный на борьбу против законов общества, причиной которого служит желание человека стать хозяином собственной судьбы. Теория деликвентных культур, сторонниками которой являлись Торстон Селлин, Дональд Миллер и Эдвин Сатерленд, делает акцент на свойстве самовоспроизводства, присущим девиантным группам. Причины данной реинкарнации сугубо психологические: молодёжь втягивается в субкультуры, так как не способна противостоять их социализирующему действию. Однако если предыдущие два подхода приписывали лишь пассивную роль обществу, не обвиняя его напрямую в формировании девиантного поведения у индивида, то концепция стигматизации, или наклеивания ярлыков, справляется с этой задачей куда уверенней. Раз оступившийся, человек вынужден продолжать вести образ жизни, соответствующий преступнику, вследствие «стигмы», наклеенной на него обществом. Межролевой конфликт особенно отчётливо проявляется в данной ситуации. Однако эта теория неоднозначна: почему нам известны случаи, когда вышедший на свободу преступник становился законопослушным, добропорядочным гражданином? Почему хулиганы, терроризирующие своих одноклассников, через десять лет меняются, становясь порядочными, «конформными»? К примеру, основатель компании «Apple» Стив Джобс в детстве был большим дебоширом, неоднократно сталкивался с полицией и имевший все шансы стать малолетним преступником. Однако этого не произошло, и теперь он нам всем известен как гениальный предприниматель, маркетолог и дизайнер. Таким образом, заводя разговор о девиации, необходимо осознавать субъективность данного термина. Сторонники «радикальной криминологии» воспользовались этой возможностью и занялись изучением сущности самой законодательной системы, на основе решений которой и происходит агрегирование данного понятия.
Обобщим изложенное: природа девиации до сих пор не может считаться познанной полностью. Однако на основе проведённых исследований с большой долей уверенности можно говорить о социальной, а не физической детерминированности данного понятия. Функционалистские и конфликтологические подходы наиболее близко подошли к раскрытию сущности отклоняющегося поведения. Следовательно, я соглашусь с автором высказывания, добавив от себя, что ни одно общество не может полноценно развиваться без наличия девиантных, то есть несоответствующих нормам данной группы, культур, и что ответственность целиком за совершившееся аморальное и противоправное действие не может лежать на индивиде.
ЭССЕ 14.
«Неравенство такой же хороший закон природы, как и всякий другой»
Иоганн Шерр
Понимание неравенства носит фундаментальный характер в гуманитарных науках. Различные исследователи по-разному оценивали данный феномен, то оправдывая, то критикуя его. Точка зрения автора высказывания прямо указывает на его положительное отношение к неравенству, возникающему вследствие конкретных законов природы. «Справедливо ли данное мнение?» – вот вопрос, на который мы должны дать ответ.
Устранение лексического дуализма является первоочерёдной задачей данного эссе. Автор упоминает некий «закон природы», то есть какие-либо структурные переменные, определяющие положение человека в обществе. Однако при неоднократном прочтении вышеприведённой цитаты может возникнуть вопрос: не имелось ли в виду понятие «неодинаковости» людей? К сожалению, я не могу дать точный ответ, но, исходя из наиболее распространённого толкования, склонен считать, что автор подразумевал именно социальное неравенство, частичное объяснение которого может быть сведено к физиологическим особенностям. Известный немецкий социолог Макс Вебер в теории многомерной стратификации выделил три наиболее общих основания для неравенства: уровень дохода, отношение к власти и престиж профессии. Различное переплетение и взаимодействие данных характеристик способно гибко объяснять устройство общества. Социал-дарвинизм, ярчайшим представителем которого являлся Герберт Спенсер, рассматривал общество как естественное образование, формирующееся на основе закона естественного отбора. Наиболее приспособленные члены группы подчиняют своей воле более слабых, формируя таким образом социальное неравенство. Следовательно, с точки зрения социал-дарвинистов, неравенство в обществе есть императивное следствие биологической дифференциации индивидов. Пользуясь типологией Макса Вебера, в основе данного неравенства лежит ограничение власти менее приспособленных индивидов. Трудно сказать, чего в истории больше: подтверждений или опровержений данной теории. Одним из доказательств несостоятельности биологического взгляда на неравенство является сословный общественный строй, имевший место в России вплоть до начала XX века. Принадлежность к сословию – социальной страте, отличающейся набором правил и обязанностей, закреплённых законодательно – определялась не личными заслугами индивидов, а лишь родственными связами с каким-либо знатным родом, чьи права были закреплены в правовых документах. История подтверждает, слуги не всегда оказывались глупее, недостойнее своих господ. Это можно подтвердить неоднозначной личностью Смердякова из романа «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского, смышлёность которого не уступала, а даже превосходила ум барина Фёдора Павловича. В произведении Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» мы наблюдаем ярчайший пример социальной стратификации по доступу к власти. Каста Альфа является наивысшей в данном государстве, затем идут Бета, Гамма, Дельта и Эпсилоны – обезьяноподобные полукретины, выполняющие низкоквалифицированную работу. Переход из одной касты в другую невозможен, т.к. принадлежность к ним определяется прямым биологическим вмешательством в физиологию будущего человека на стадии его производства. Однако данный способ создания людей далёк от того, который мы имеем по сей день. Теория классовой стратификации, предложенная немецким учёным Карлом Марксом, уже не рассматривает неравенство как естественный феномен, однако в философии немецкого мыслителя ему отводится особое место. Благодаря классовой борьбе, преодолевая формацию за формацией, человечество способно достигнуть коммунистического, бесклассового общества. Причиной социального конфликта является огромная пропасть в экономическом развитии двух противоборствующих классов: рабочих и буржуазии. Уровень дохода (см. Макса Вебера) играет в данном подходе главенствующую роль. Таким образом можно утверждать, что для Маркса неравенство как причина конфликта между классами являлось необходимым средством для достижения главной цели – коммунизма, иными словами без неравенства достижение равенства социального невозможно. Трудно судить об истинности данной философии в силу утопичности достижения коммунистического строя, стремление к которому было главной задачей Советского правительства в течение XX века. Распад СССР в 1991 году дал повод усомниться в реализуемости данной задачи. Французский социолог Эмиль Дюркгейм, будучи сторонником направления социального реализма, принимал наличие неравенства в обществе как факт. Его теория механической и органической солидарности демонстрировала путь развития общества вплоть до наших дней. Рост социальных конфликтов между индивидами вследствие их «неодинаковости» привёл общество к разделению труда, ознаменовавшему собой формирование органической солидарности, взамен механической. Для этого общества характерна высокая специализация и взаимозависимость индивидов. По Дюркгейму неравенство носит функциональный характер: для выполнения наиболее сложной работы общество привлекает самых высококвалифицированных специалистов, обеспечивая таким образом качественное выполнения поставленной задачи. Такая социальная стратификация в качестве статусных ранговых переменных (т.е. влияющих на престиж) выделяет уровень образования и квалифицированности работника, то есть зависит от престижа профессии на каком-либо временном промежутке. Подробнее этим вопросом занимался социолог Уильям Уорнер. Он разделил общество на три класса – высших, средних и низших – в каждом из которых выделил ещё по две подгруппы: высших и низших. Такая социальная стратификация препятствует застою в обществе, обеспечивает социальную мобильность, стимулирует конкуренцию и экономический рост.
Однако неравенство в силу престижа профессии является лишь одной из сторон, рассмотренных нами. Французский социалист-утопист Франсуа Бабёф известен созданной им организации «Заговор во имя равенства». В его понимании равенство означало отсутствие деления на богатых и бедных. Факт нарастающего социального конфликта между этими двумя классами и растущей социальной нестабильностью явился частичным опровержением полезности неравенства для общества. Борьбой с его пагубными последствиями человечество занимается в течение всей истории. Всего пару веков назад в Америке всех прав было лишено чернокожее коренное население. Рабство носило всеобъемлющий характер. Жуткие пытки со стороны белокожих хозяев, кровавые расправы над провинившимися неграми, страдания и смерть – всё это реалистично описано в таких книгах как «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна и «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу. Слияние биологической «неодинаковости» с социальным «неравенством» обернулось в трагедию уже в XX веке. Нацистская идеология в Германии оправдывала массовые уничтожения «неполноценных» рас в целях создания одной высшей арийской расы. Тотальное непризнание каких-либо прав евреев, славян и прочих наций в конечном итоге обернулось в непризнание их права на жизнь. Официальная идеология, выстроенная на социальном неравенстве, искажает реальность, заставляя одних людей истреблять других во имя призрачного идеала. Такой принцип идёт вразрез с либерализмом, борющимся за равенство возможностей для всех людей. Исследованием причин столь большой популярности тоталитарных идеологий занимались такие учёные как Карл Поппер, Ханна Арендт, Збигнев Бжезинский, Эрих Фромм и другие. На основе их трудов можно сделать следующий обобщающий вывод: формальное равенство перед законом в правах – вот основной критерий, обеспечивающий мирное развитие человечества.
Проблема неравенства слишком объёмна, чтобы раскрыть её целиком в одном эссе. Однако на основе того, что нам удалось обсудить, я могу сказать следующее: согласие с автором может быть лишь частичным вследствие разрушительных последствий ярко выраженного социального и политического неравенства, но отвергать движущий преобразующий характер последнего, формально никак не закреплённого, будет так же несправедливо. Иными словами, неравенство людей как индивидов позволило наделить их равенством как членов общества.
ЭССЕ 15.
«Роль не личность, а изображение, за которым она скрывается»
Алексей Николаевич Леонтьев
Каждый день мы играем по нескольку социальных ролей. Неудивительно, что в таком разнообразии образов подлинная человеческая сущность может раствориться, смешавшись с многочисленными максами. Однако действительно ли социальная роль не может быть отождествлена с личностью?
Ожидаемое группой поведение от индивида формируется под влиянием социального контроля – способов воздействия на индивидов с целью достижения их конформного поведения по отношению к групповым нормам и ценностям. Нередки случаи, когда нормы и ценности социальной роли противоречат нормам и ценностям личности, эту роль играющую. Внешняя конформность, обеспечиваемая санкциями со стороны группы, не граничит с конформностью внутренней. Данное разногласие и приводит к ситуациям, в которых подлинная личность скрывается за маской из социальной роли. Причиной такой ситуации является неполная социализация индивида, то есть лишь частичное формирование навыков и установок личности, соответствующих её социальной роли. Данной проблемой занимались такие видные исследователи человеческой природы как Зигмунд Фрейд, Чарлз Кули, Джордж Мид, Питер Бергер, Томас Лукман и другие. Если психологическая теория австрийского психиатра опирается на определяющую роль первичных инстинктов в структуре личности («Ид»), то сторонники символического интеракционизма в лице Кули и Мида большее внимание в процессе социализации уделяли обществу. Теория «зеркального Я» описывает механизм усваивания норм и ценностей на основе реакции общества на его поступок. В противовес этой концепции Кули Чарлз Мид трактует социализацию как некую игру в несколько этапов: имитация, индивидуальное проигрывание роли и коллективная игра. Питер Бергер и Томас Лукман описывали реальность как социально конструируемую среду, в которой происходит оправдание многообразий знаний в обществе, при помощи которых любая система становится социально признанной в качестве реальности. Невозможно уверенно провозгласить какую-либо из этих теорий абсолютно истинной, однако в современном понимании социализации взгляды Зигмунда Фрейда будут иметь наименьшее количество точек соприкосновения с реальностью. Примером подтверждения слов автора цитаты можно назвать один из эпизодов антиутопического романа «1984» Джорджа Оруэлла, в котором главный герой Уинстон Смит на «пятиминутке ненависти» в мыслях осуждает агрессивное поведение окружающих его людей, однако в силу сильного государственного аппарата принуждения вынужден копировать действия толпы ради собственной безопасности. В данном случае личность действительно было скрыта за социальной маской. Такое противоречие способно привести к ролевому напряжению – несоответствию между личностными характеристиками с одной стороны и ролевыми ожиданиями с другой. Крайней формой нормативного антагонизма может стать девиантное поведение – частичное или полное уклонение от общественных правил поведения. Подходы к девиации разнообразны: от биологической теории Чезаре Ломброзо и Уильяма Шелдона до социологической теории стигматизации Товарда Беккера. Теория делинквентых субкультур описывает тенденцию девиантных групп к самовоспроизводству в силу их социализирующего действия на молодежь. Роберт Мертон рассматривает девиацию как рассогласование терминальных и инструментальных, иными словами – целей и средств. Типология социальной адаптации, составленная данным социологом, отражает различные механизмы приспособления к окружающей среде. К примеру, рассмотренный нами случай поведения Уинстона из романа «1984» может быть классифицирован как ритуализм, так как личность преследует иные цели, но используя разрешённые средства. Создание новых терминальных и инструментальных ценностей выражается в мятежническом типе социальной адаптации. Его можно пронаблюдать в попытке осуществить революцию в романе Евгения Замятина «Мы» группой амбициозных людей. Несмотря на провалившийся план, такой тип девиации наблюдается во многих литературных произведениях, и более – на протяжении всей человеческой истории. Из вышесказанного можно заключить: срывание маски с лица подлинной личности может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям.
Однако есть ли у нас основания не согласиться с автором этого высказывания? Известны случаи, когда социальная роль напрямую совпадала с личностью человека. К примеру Лев Троцкий – один из идеологов социалистической революции 1917 года – искренне верил в победу коммунизма во всём мире. Его роль совпадала с теми нормами и ценностями, которые были свойственны личности этого политического деятеля. Лев Давидович был взят в качестве прототипа героя Сноуболла в романе «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Снежок искренне верит в построение общества равных животных и благодаря своим ораторским и военным способностям пользуется широким доверием, что и является причиной его изгнания Наполеоном.
Обобщим вышеизложенное: с моей точки зрения согласие с автором высказывания может быть лишь частичное. Действительно, личность в обществе скрывается за маской социальной роли, что имеет свои положительные и отрицательные последствия, однако нередки случаи, когда тождественность этих двух неотъемлемых составляющих подтверждается действиями, непротиворечащими нормам и ценностям как чистой человеческой сущности, так и роли, которую она играет.
ЭССЕ 16.
«Современное общество – это волшебник, который не может справиться с подземными силами, вызванными его же заклинаниями»
Карл Маркс
Характеристика общества занимала умы многих исследователей. Данное высказывание направлено на критику индустриальных и постиндустриальных общественных отношений. Автор утверждает, что современный мир гибнет вследствие причин, вызванных его развитием. Однако так ли это на самом деле?
Современное общество всё меньше уделяет внимания целостной личности, отдавая предпочтение лишь его экономически выгодным качествам. Такое отношение ведёт к деперсонализации рабочего, способствуя укоренению взгляда на человека как на некий товар. «Товарные отношения» между людьми сегодня широкого распространены: стало куда сложнее встретить пару, чьи отношения построены на безвозмездной дружбе и взаимоуважении, а не на корысти и взаимовыгоде. Данную особенность заметил ещё во второй половине XIX века Фердинад Тённис. В своих трудах он разделил общество на две категории: общину и «злое общество». Для первого типа характерны добрые отношения, выстроенные на дружбе и соседстве, в то время как второму типу соответствует строгая рационализация и стремление к выгоде. Георг Зиммель – социолог XX века – связывает такой острый переход с появлением денег. Этот принцип нашёл своё отражение и в классификации немецкого исследователя: общество делилось на «додежный» и «денежный» типы. Рост интеллектуализации в духовной сфере и рационализации в экономической привёл общество на порог духовной проституции: отсутствию интимной привязанности человека к себе подобным. К примеру, в романе Эрих Марии Ремарка «Чёрный обелиск» повествуется о группе немецких юношей, работающих в сфере похоронных услуг. В их кругу общения присутствует успешный предприниматель, умеющий искусно подделывать слёзы соболезнования, что и подкупает овдовевших жён. Впечатление искреннего переживания со стороны торговца надгробиями заставляет несчастных женщин заплатить за оформление могилы именно ему. Современному обществу также характер рост аномии – разложению морально-нравственных ориентиров. Этот термин был введён Эмилем Дюркгеймом и характеризовал общество органической солидарности – преемника общества механической солидарности. Переход был обусловлен ростом механической и моральной плотностей, вследствие чего произошло разделение труда с последующей специализацией индивидов и ростом аномии. Данное состояние является угрозой для общества: в такие периоды высока вероятность прихода к власти диктаторов. Подобная ситуация произошла в Германии в начале XX века с приходом Гитлера, что было подробно описано социологом Эрихом Фроммом в труде «Бегство от свободы». Жители Германии, истощённые после поражения в Первой мировой войне, с удовольствием отдали бремя своей свободы в руки диктатора. Немецкий мыслитель также подвергал критике общество потребления. В произведении «Искусство любить» Фромм описывает, как современный капитализм негативно повлиял на любовные взаимотношения между людьми: люди потребляют друг друга как товар с определённым набором свойств и характеристик. Омассовление является неотъемлемой чертой современного общества. Личность теряет свою уникальность, растворяется в толпе. Безграничное потребление рождает спрос даже в духовной сфере: возникновение массовой культуры является ответом на возросшую потребность толпы в удовольствии. С развитием СМИ и средств коммуникации проблема вымирания культуры и превращения её в слугу масс стоит наиболее остро. Освальд Шпенглер – немецкий историк XX века – признавал принципиальную невозможность одновременного существования и цивилизации, и культуры – с развитием первой последняя обречена на вымирание. Феномен массового потребления стал центральным объектом исследований Герберта Маркузе и Хосе Ортега-и-Гасета – видных философов XX века. «Одномерный человек» Маркузе стал неким символом XXI века: сознанием индивида искусно манипулируют производители посредством современных технологий. К примеру, выход новой модели смартфона компании «Apple» сопровождается километровыми очередями, места в которых люди занимают за несколько дней до старта продаж гаджета. Что это: желание изменения своего социального статуса или всего лишь удачный маркетинг? Рост научно-технического прогресса не остановился на мобильных устройствах. Изобретение ядерной бомбы стало прорывом в науке, расширив зону влияния держав, обладающих данной технологией. Недавно в СМИ сообщили о переводе «ядерных часов» на полминуты ближе к полуночи вследствие роста межнациональной напряжённости из-за возобновившихся ядерных испытаний в Северной Корее. Таким образом, творческая природа человека обернулась угрозой истребления всего человечества. Тотальная демократизация западных стран породила ряд новых проблем. В США наблюдаются ситуации, когда численное меньшинство наделяется большими правами, чем большинство. Различные законы о толерантности в отношении сексуальных меньшинств и широкая распространённость феминистских движений увеличивают вероятность наступления диктатуры меньшинства. Эта проблема была затронута американским экономистом Нассимом Николасом Талебом. Разве не противоречит какая-либо форма проявления диктатуры основном демократическим принципам?



