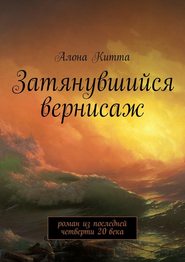
Полная версия:
Затянувшийся вернисаж. Роман из последней четверти 20 века
– Тебе же все равно с км. подвернулся другой, побогаче, и ты тут же лезешь к нему в постель.
– Миша, зачем ты так, ты же меня знаешь, – умоляла я.
– К сожалению, выяснилось, что не знаю, – ядовито заметил он, – если бы вчера не сорвалась моя работа и я не пришел к тебе, я бы так и оставался… дураком, которого ты всю жизнь водила бы за нос.
– Миша, я виновата, прости меня, но я люблю только тебя.
Не надо было говорить это: Миша так и взвился:
– Любишь! А когда ты с ним в постели валялась, ты кого любила?
Я заплакала, а Миша снял свою куртку с вешалки и собрался уйти.
– Надеюсь, ты понимаешь, что между нами все кончено? – тихим голосом сказал он на прощанье, и меня поразила будничность его тона: тут жизнь рушится, а он…
– Стой, Мишка! – заорала я, когда он уже топтался у двери – Ты сейчас судишь меня, осуждаешь. Ты можешь перечеркнуть все хорошее, что было между нами из-за одной ошибки. Не перебивай, ты умиляешься своей принципиальностью, но, Миша, никто не будет любить тебя так, как я. То, чтоя жить без тебя не смогу, я уже знаю, но ты… сможешь без меня?
Рыдания не давали говорить, душили, слезы катились по лицу – я осознавала важность момента: еще миг – и пустота, поэтому хотелось высказать все, что наболело, возможно больше такой момент мне не представится. А Миша, мой дорогой любимый Миша стал вдруг неузнаваемо жестким в язвительной гримасе и он сказал насмешливо:
– Перестань, Лида. Ты плохая актриса и уже сыграла все свои спектакли.
Хлопнула дверь, а я в бессилии опустилась на теткину кровать. Может быть, побежать за ним, вымаливать прощение, валяться в ногах. Как там у Ахматовой-
«Улыбаясь, я крикнула: «Шутка
Все что было. Уйдешь – я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой не ветру». 14
Вот он и ушел со спокойной жуткой улыбкой, бескомпромиссный, уверенный в своей правоте и я, вдоволь наревевшись стала думать, как бы найти возможность к примирению, но в голову ничего не приходило, тем более в своих бедах я сама была виновата. В институте Ася подсыпала соль на рану, сообщив, что вся их компания собирается завтра у Миши, чтобы проводить его в армию. Подразумевалось, что я тоже приглашена, и я не стала ее разуверять.
На следующий день Ася то и дело поглядывала на меня с недоумением, но ничего не спросила, да и рассказывать о прошедшей вечеринке не спешила.
Мишу я не видела – он не шутил, когда сказал, что между нами все кончено. Тоскливо прошел день, на который была назначена наша свадьба, наконец, подошло время идти Мише в армию.
С утра я названивала Асе, чтобы уточнить, во сколько уезжает Михаил и к какому району относится их военкомат – к Выборгскому или Калинискому, но безуспешно, ее номер не отвечал. Потом выскочила на улицу где шел дождь. Я спешила, чтобы успеть проводить Мишу и, может быть, поговорить. Я уже истомилась за дни нашего разрыва, и не могла допустить, что Миша уйдет в армию, не сказав мне ни полсловечка на прощанье.
Как назло, меня все что-то задерживало, то долго не было автобуса, то в метро работал эскалатор на подъем на Финляндский вокзал, а не на улицы Боткинскую и Лебедева, где я обычно выходила рядом с трамвайной остановкой, так что терялись минута за минутой, и я боялась опоздать. И вот наконец, когда я прибыла к военкомату, то долго не могла отыскать Михаила в толпе призывников и провожающих, заполнивших весь переулок. Рядом в ожидании стояли несколько автобусов. Шоферы покуривали и бесстрастно взирали на это вавилонское столпотворение. Офицеры поглядывали на часы, но не спешили давать команду к отправке. Парни в плащах и куртках, с сумками и рюкзаками, шумели, курили, обнимали заплаканных матерей и девушек – я вглядывалась в их лица, но не могла найти Михаила. Я протискивалась еще и еще, переходя от одной группы к другой и когда уже совсем отчаялась в своих поисках, вдруг увидела промелькнувший знакомый профиль, и тут же чьи-то головы сомкнулись и скрыли его от меня.
Двинувшись в том направлении, я пробиралась все ближе и ближе, как вдруг внезапно открывшаяся картина заставила меня остановиться. Да, это был он, Михаил, рядом с ним Дора Соломоновна, зареванная, маленькая и жалкая, не похожая на ту решительную женщину, какой она мне показалась при нашей единственной встрече и какую я знала по рассказам ее сына. А еще с ними была Лена.
Сердце у меня сжалось, когда я увидела ее в модном плаще и потрясающем брючном костюме, улыбающуюся и удивительно красивую. Она держала Мишу под руку и что-то говорила, заглядывая ему в глаза, он улыбался, отвечал односложно, кивал головой, а лицо у него было таким замкнутым – ничего не прочесть, но, впрочем, все и так было ясно. Как они смотрели друг на друга, как она по-хозяйски обнимала его, а Михаил не отталкивал, а наоборот прижался щекой к ее лбу. Боже мой – я спешила, чтобы увидеть это и понять, что надежды нет никакой!
Наконец, офицер с громкоговорителем в руках приказал строиться. Наступила минута прощания. Все как-то встрепенулись, взметнулись объятия, еще горше лились слезы – слезы расставания. Призывники смущенно целовались со своими домашними, а некоторые счастливцы, которых провожали девушки, отдавали им свои прощальные поцелуи.
Миша подхватил синюю спортивную сумку, Дора Соломоновна взвыла и повисла у него на шее, Миша убрал ее руки и поцеловал в заплаканные глаза, что-то быстро-быстро говоря ей на прощанье, а потом протянул руку Лене. Легкая усмешка промелькнула на ее лице, она пожала протянутую руку, а потом, дерзко сверкнув глазами жадно впилась в его губы.
Я стояла, не двигаясь с места, смотря на них во все глаза. Мимо меня шли туда-сюда, меня толкали все, кому не лень, а я не могла пошевелиться, загипнотизированная их поцелуем. Горькие непрошенные слезы текли по моему лицу, смешиваясь с мелкими дождевыми каплями, а мир рушился и уходил у меня из-под ног.
Не помню, где я бродила потом – не имеет значения. Ленинград потерял для меня свое очарование, превратившись в бездушный каменный мегаполис – порождение инфернальных миров. Он выпил из меня все жизненные силы, он отравил мою душу своими ядовитыми испарениями и растоптал мою любовь. Вокруг были люди, много людей – они спешили, толкаясь и извиняясь на ходу, но все их громадное число, все 5 миллионов не могли заменить мне одного Михаила, которого я потеряла по собственной глупости. Я не видела ничьих лиц, не различала никаких слов – перед глазами стояла картина их жадного поцелуя. Передо мной в душе легла такая ужасающая пустота, что кричать хотелось.
Пустота моментально заполнилась болью, и я понимала, что проживи я еще пять, десять, двадцать лет, она не исчезнет, потому что это боль утраты.
«Жить приучил в самом огне,
Сам бросил в степь заледенелую.
Вот что ты, милый сделал мне.
Мой милый, что тебя я сделала?«15
Повторяла я горькие строки. Миша, Миша, за что ты меня так? Ты ушел из моей жизни, а я буду жить по-прежнему – есть, пить, говорить, сдавать экзамены. Но какой в этом смысл? Кто заменит мне тебя, мою единственную любовь? Ведь опустошенное сердце любить не сможет…
Я машинально вошла в метро и вдруг остановилась возле аптечного киоска. Ноксирон… Вот где выход, решение всех проблем. Вот оно, лекарство от нестерпимой боли, терзающей мое сердце. Миша говорил, что эти таблетки можно купить без рецепта, а там…
Потоптавшись немного, я приобрела две упаковки и поехала домой, полная решимости поставить крест на своей загубленной, как мне тогда казалось, жизни.
Глава 11
Мне стыдно сейчас вспоминать подробности этой первой и последней попытки суицида. С тех пор, сколько бы ни было в моей жизни горьких моментов, я стараюсь все вытерпеть и достойно нести свой крест.
Но тогда я и впрямь считала, что выхода нет, поэтому в тетино отсутствие надела лучшее свое белье и выпила одну за другой – все 20 таблеток, не считая нужным оставить письмо или записку. Секунда, другая – наступил спасительный покой, потом чернота и полное забытье…
Я стала ощущать на себе чьи-то прикосновения, кто-то трогал мой пульс.
– Брадикардия. Давление измерили?
– 80/60
– Добавьте в капельницу…
Слышались чьи-то голоса, но смысл слов до меня не доходил, и я не могла понять, где нахожусь. Глаза почему-то не открывались – казалось, я забыла, как это сделать. И вообще мне было не пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Впрочем, я попыталась подвинуть руку и ощутила боль в локтевом сгибе. Что-то чужеродное мешало мне и вызывало эту боль, но что это, я догадалась позже, когда приоткрыла глаза и увидела женщину в белом халате, держащую в руках шприц и что-то вводившую из него в резиновые трубки.
– Это капельница, – подумала я – Я в больнице. Но что со мной случилось?
– Доктор, она открыла глаза! – воскликнула женщина со шприцем.
Ее лицо я никак не могла разглядеть, как и лицо доктора, склонившегося надо мной – мой взгляд блуждал из угла в угол, голова кружилась, и все увиденное сливалось в одну хаотическую массу. Кто-то, вероятно, доктор склонился надо мной и громко сказал прямо в ухо:
– Лида, Лида, ты слышишь меня?
Я пыталась ответить, но язык не слушался, да и рот было не разжать, и пришлось доктору несколько раз повторить свой вопрос, прежде чем я смогла ответить с большим трудом:
– Слышу… Где я?
Манжетка сжимала мне другую руку – еще один человек измерял мне давление, я скорее догадывалась об этом, чем видела своими глазами.
– Ты в больнице на Пионерской, – ответил мне тот же голос, а потом спросил у своего коллеги:
– Сколько сейчас?
– 90/60
– Что со мной, доктор? – прошептала я.
– Разве ты ничего не помнишь, Лида? Ты выпила много таблеток.
– Зачем?
– Вот и я не знаю, зачем, – вздохнув, сказал доктор, но я уже опять провалилась в какие-то темные глубины.
Позже я окончательно пришла в себя и вспомнила все случившееся накануне, но удивительное дело! – то ли это продолжал действовать ноксирон и наступила эдакая эмоциональная приглушенность, то ли от того, что я на том свете побывала и вернулась другим человеком, но я не почувствовала той сильной душевной боли, возвращения которой так боялась. Вернее она была, но какая-то тупая, отдаленная, словно все это произошло не со мной, а с другой девушкой, и я переживаю за нее, а не за себя. А всем известно, что чужая боль не так чувствительна, как своя. Я узнала, что помог мне случай в лице соседки, которая зашла одолжить то ли соли, то ли спичек и увидела, что я сплю среди бела дня в неестественной позе. Это ей показалось странным и она позвала всех соседей. Кто-то из них нашел пустые упаковки из-под ноксирона, все догадались, в чем дело и вызвали «скорую». А на Пионерской как раз находилась больница, куда привозили суициды со всего Ленинграда.
Ну и натерпелась же я в этой больнице – от неприятных процедур до неприятных расспросов, но не обращала на это внимание. Я осталась жива – что ж, судьба. Теперь нужно каким-то образом возвращаться к нормальной жизни. Но как? Разве я смогу объяснить кому-нибудь причину своего поступка? А выдержать косые взгляды и разговоры за спиной? Конечно, виновата я сама, но от этого не будет легче.
Таким образом, меня выписали из больницы утром 30 апреля, и я вышла на свет божий, растерянная от груза навалившихся проблем и слабая физически. Суровая тетя Дуся встретила меня у ворот, и мы молча пошли на трамвай. До самого дома она не произнесла ни слова, но уж там она высказала все, что думала по этому поводу.
– Мало тебя Паша в детстве ремнем бил, надо было не жалеть – экая дрянная девка выросла, – бушевала тетя. – Жить ей надоело, видите ли – голодная она, оборванная, исстрадамши бедная… Горя ты не знала, дорогая племяшка, вот что я тебе скажу…
– Оставьте, тетя, – попробовала я ее прервать, но мне это не удалось.
– Оставить? После того, что ты тут натворила? Да как бы я твоим отцу с матерью в глаза глядела, если б с тобой что случилось? Сказали б: «Недосмотрела, Дуня». А Дуня день и ночь на работе, а она тут и вытворяет, что хочет. И вот что я тебе скажу. Лида, больше я не потерплю такое в своем доме – ни за что.
– Больше этого не будет, тетя. Я уеду домой, в деревню.
Тетя аж на месте подпрыгнула после этого моего заявления и воскликнула:
– Ты это что удумала, поганка? Ты институт бросить удумала? Ну отвечай…
Слезы хлынули у меня из глаз, но я постаралась ответить тете:
– Как я теперь туда покажусь?
Тетя бросилась ко мне, обнимала и гладила по голове, а я все плакала и плакала, как будто только сейчас оплакивала все пережитое в последние дни. Голос тети потеплел, она уже не ругалась, а уговаривала ласково:
– Успокойся, Лиденька, не плачь. Что-нибудь придумаем, всяко в жизни бывает. Только институт не бросай – это самое главное. А таких Мишек у тебя будет пруд пруди – тьфу!
И она сплюнула в сердцах.
– Интересно, откуда она догадалась про Мишку? – подумала я. – Я же ни слова, ни полслова ни с кем…
Но, видно, тетя предполагала нечто более серьезное, чем простая ссора.
– Ты не беременна? – неожиданно спросила она.
Я перестала плакать и возмущенно посмотрела на нее:
– Тетя, как Вы можете предполагать такое? Да если хотите знать, у меня как раз сегодня первый день месячных, а Вы…
Видно было, что камень у нее с души свалился, так она сразу повеселела и заулыбалась.
– Так чего ж ты тогда переживаешь, дурочка? – спросила она ласково. – Не съедят тебя в твоем институте. Сделала глупость – забудь, все можно поправить.
– Как же, – мрачно отозвалась я. – Вы в мою справку загляните, что там написано… Можно с такой справкой в деканат?
Тетя достала из кармана справку, в которой черным по белому стояло: «Истерическое состояние, суицидальная попытка». Расспросив, что это значит, она задумалась, а потом приказала:
– Ложись и спи!
Я повиновалась, потому что слабость давала о себе знать, и мне даже за столом сидеть было трудно. Устроившись поудобнее на своей раскладушке, я тут же задремала. Последнее, что я слышала сквозь сон, это как в коридоре тетя набирала чей-то телефонный номер.
Разбудили меня приглушенные голоса, раздававшиеся в комнате. Беседовали двое – тетя и еще кто-то. Вскоре я поняла, что Оля Саманова.
– … а так ведь с первого взгляда и не скажешь, кто чего стоит. Я и век бы не подумала, какой подлец этот Мишка, – возмущалась тетя.
– А Лида говорила что-нибудь? – спрашивала Оля.
– Оленька, ты же знаешь, какая она скрытная. Ну пусть я ей не мать, а тетка, но она ж для меня заместо дочери – так ведь все равно таится! Видела я, что с девкой неладно в последнее время, но про такое… Да ты бери еще медку, бери…
– Спасибо, тетя Дуся.
Они сидели за столом, пили чай и мирно беседовали. Я приподнялась на локте, и они обе сразу обернулись ко мне.
– Проснулась? Вставай, Лидуш. Оля к нам пришла, – сказала тетя Дуся.
Я кивнула Оле, она подошла ко мне и неожиданно обняла.
– Как ты себя чувствуешь? – спросила Оля.
– Ничего, – ответила я, застыдившись столь явного участия к моей скромной персоне.
– Голова не кружится?
– Нет.
Я быстренько привела себя в порядок и подсела к ним. Тетя налила мне крепкого чая, и я медленно пила его глоток за глотком. Разговор не клеился – не станут же тетя с Олей обсуждать меня в моем присутствии! Мы перебрасывались изредка ничего не значащими фразами, а потом и вовсе замолчали. Я уже подумала, что напрасно тетя выложила Оле о последних событиях, что ей нужно было просто почесать язык, но я ошибалась. Оля приехала не из-за праздного любопытства или просто сочувствия – она хотела мне помочь.
– Если ты в порядке, то сейчас поедешь со мной, – сказала Оля, увидев, что моя чашка пуста.
– Куда?
– Я попросила кое-кого… Тебе напишут другую справку.
Я сначала ничего не поняла, но Оля объяснила, что в той справке будет написано, что я якобы болела ОРЗ, и никто в институте ни о чем не узнает.
– Кто же мне даст такую справку? Оля! Неужели ты все рассказала родителям? – я была почти в панике, но Оля сразу успокоила:
– Да ты что? Каким родителям? Я позвонила Виктору Ивановичу и он обещал… Только поедем сразу, сегодня у них короткий день…
Да, завтра Первое мая, праздник, как я забыла об этом! Ну что ж, Виктор Иванович для меня чужой человек, и смотреть в глаза ему будет проще… Я кивнула в знак согласия и стала собираться.
В начале второго мы приехали в первый медицинский, и Оля повела меня в кабинет Виктора Ивановича. Вокруг было пустовато: у больных тихий час, у медперсонала обед, а студенты в предвкушении праздника уже разбежались из alma mater кто куда.
Оля постучала в дверь, на которой висела табличка с двумя фамилиями: «Бондаренко Б. Б., Воскресенский В. И.», и заглянула внутрь:
– Можно?
– Заходите, Оленька, – послышался приятный баритон.
Оля взяла меня за руку и мы вошли в кабинет. Эта была комната, узкая, как чулок, заставленная книжными стеллажами по стенам и двумя письменными столами возле окна. Кожаная кушетка стояла слева у двери, а справа – ящики с таблицами, схемами, муляжами.
Виктор Иванович сидел за столом. Он взглянул на нас обеих, на мгновение задержавшись на мне, и я заметила, что он чем-то похож на Михаила – те же карие глаза, тот же оттенок волос, правда не каштановый, а потемнее, но выражение лица другое: не восторженно-щенячье, как у Миши, а серьезное, немного грустное. Что ж, может быть, такое лицо будет и у Михаила в 31 год – кто знает?
Возраст Виктора Ивановича я знала, конечно, от Оли, которая всю дорогу пела дифирамбы в его честь, и я еще более укрепилась в своих подозрениях насчет ее влюбленности.
Здесь, в его кабинете, я конечно не смотрела на нее, да и не за этим я сюда ехала, но ее трепетный голос, ставший до неузнаваемости нежным и чистым, как колокольчик, снова навел меня на эти мысли. Об отношении же Виктора Ивановича к подруге мне было трудно судить, кто его знает, о чем может думать взрослый мужчина, преподаватель, человек из другого мира и поколения? Хотя его желание выполнить Олину просьбу о чем-то говорило!
А Виктор Иванович пригласил нас сесть и достал из ящика бланк студенческой справки, пока Оля объясняла, что я та самая и есть ее протеже о которой она утром говорила по телефону.
Несомненно, она поставила его в известность о моей неудачной попытке свести счеты с жизнью – он посмотрел на меня с таим неподдельным любопытством, с каким посторонние люди смотрят на чужие свадьбы, похороны или аварии, и вероятно задавался вопросом, как я дошла до жизни такой, но лезть в душу без спроса воспитанный интеллигентный человек не станет, а Виктор Иванович именно был таковым, поэтому он задавал мне вопросы только для того, чтобы заполнить бланк:
– Фамилия, имя, отчество? Егорова Лидия Павловна? Так, год рождения? Место учебы? Сколько Вы пропустили? С 26-ого по…
Когда все было заполнено, он вручил мне справку со словами:
– Вот Вам документ – штампы и печати я уже поставил в регистратуре поликлиники.
– Спасибо… А если спросят, почему я лечилась не в своем районе?
– Так ты же по месту работы лечилась – воскликнула Оля с какой-то преувеличенной радостью, – Виктор Иванович, ведь она у нас работала в прошлом году в приемном покое. Я ее устроила. Вы ее помните?
Делать Виктору Ивановичу на работе нечего, кроме как запоминать физиономии всех санитарок, меняющихся чуть ли не каждый месяц. Правда в лице его появилось напряжение, очевидно, он все же попытался вспомнить меня, но навряд ли сумел, хотя ответил неопределенно:
– Да, да, кажется, что-то припоминаю.
Этот небольшой намек подбавил Оле восторженности, и она неожиданно начала меня расхваливать и благодарить Виктора Ивановича за то, что он помог такой замечательной девушке, хорошей подруге, одной из лучших студенток, которой светит красный диплом. Я даже подумала, что этими похвалами она пытается реабилитировать меня в глазах ее высокочтимого Виктора Ивановича, и мне стало неловко.
– Перестань, – попросила я, дернув Олю за рукав – таки речи говорят разве что на похоронах.
Оля замолчала. Мое замечание о похоронах напомнило о том, ради чего я сюда пришла. Мы переглянулись с подругой и собрались было уйти, но Виктор Иванович неожиданно попросил нас задержаться. Он потянулся к подоконнику и выдвинул из лежавших в беспорядке книг, бумаг, тетрадей вазу со свежими цветами. Эти цветы он разделил на 2 букета и протянул нам.
Мы снова недоуменно переглянулись, и я не сдвинулась с места, а Оля стала смущенно отказываться:
– Ой что вы, спасибо, не нужно!
Виктор Иванович тоже выглядел смущенным.
– Оленька, завтра же 1 мая – смотрите, сколько мне больные перед выпиской натащили. Ну что мне с ними делать? Возьмите.
– Вот и несли бы домой жене, – выпалила я, вероятно, несколько резковато.
Виктор Иванович удивился моему неожиданному выпаду и спокойно возразил:
– А у меня нет жены.
Устыдившись своей внезапной резкости, я взяла цветы, Оля тоже, глядя на меня, Виктор Иванович улыбнулся.
– Ну так что, с наступающим праздником!
– И Вас, Виктор Иванович, – сказала Оля.
Мы поблагодарили его и вышли.
Солнце светило, небо поражало своей голубизной, асфальт уже просох, пробивалась во всю зеленая трава, а люди шли без плащей и курток. Город был украшен к празднику флагами и плакатами и все толпились в очередях, покупая все подряд к праздничному столу. Мы несли цветы, подаренные Виктором Ивановичем и улыбались.
– Видишь, Лида, какой он замечательный человек, – вернулась Оля к излюбленной теме – восхвалению своего кумира.
– Да, – согласилась я, – он чем-то похож на артиста Тараторкина из ТЮЗа.
– Правда. А я и не заметила.
Оля улыбалась безмятежно, погруженная в свои мечты, и мечты эти были связаны, как об этом несложно было догадаться с одним человеком. Ей хватило небольшого поощрения с его стороны, этого самого букетика тюльпанов, как она сама расцвела, подобно весенним тюльпанам и нарциссам. Я же, пережившая любовное разочарование, смотрела на нее скептически, и задавалась вопросом, что она нашла в человеке старше себя на целую жизнь? Любовь, страсть, поцелуи – пусть другие лезут в эту трясину, а с меня хватит, сыта по горло. А тут еще эти цветочки… Я повертела в руках букет и вдруг швырнула ни в чем неповинные цветы в урну…
Глава 12
В институте никто ни о чем не узнал. Я сдала новую справку в деканат и продолжала как ни в чем ни бывало, посещать лекции и занятия. Летнюю сессию я сдала на «отлично» и с начала июля должна была отрабатывать практику на кафедре. Тетя Дуся, наконец, долгожданный ордер на выстраданную однокомнатную квартиру и пребывала в состоянии стойкой эйфории. Правда, квартира находилась на «выделках», на проспекте Ветеранов – далеко от центра, и до метро ехать в переполненном автобусе минут 20-ть, но тетину радость это не умоляло. Мы с ней и брат Саша, частенько навещавший нас, потихоньку складывали вещи и готовились к переезду. Саша был в курсе моих дел, но обсуждать их он не стал, только сказал в адрес Михаила:
– Вернется – убью.
Я была рада переезду и всей суете, связанной с ним – не оставалось времени на посторонние мысли, он лезли, непрошенные и будили приглушенную за последние месяцы боль утраты. Как наркоз отходит после операции, так отходила и анестезия чувств – защитная реакция, давшая мне возможность передышки. Я ожидала, и вновь просыпались прежние страсти, желания и связанные с ними страдания.
Ночью меня терзали воспоминания о Михаиле, в исступлении я обнимала подушку и прижимала к своей разгоряченной груди, по подушка всего лишь подушка, а я так жаждала его ласк.
Днем в свободное время я бесцельно бродила по городу, заходя в магазины и кафе, толкаясь у витрин или в очередях за мороженым.
Подходило к концу время белых ночей, а за бесконечно длинный день солнце так нещадно изливало жар на городские камни, что даже вечером нечем было дышать. В такие часы я вспоминала деревню – густую тень сада, прохладу родника, свежий пряный ветер заливных лугов – но тут же пугалась своих воспоминаний: близился час появления пред мамины очи после всего, что я здесь натворила и, хотя она не знает ничего, все равно мне было страшно.
Однажды меня навестила Оля Саманова. Мы с ней не виделись во время сессии, только перезванивались. Оля приехала с необычной просьбой. Она благополучно сдала экзамены и перешла на второй курс, а теперь собиралась на лето в Астраханскую область в стройотряд.
– Послушай, Лидочка, ты не могла бы поработать на моем месте в 3-ей терапии, хотя бы месяц? – попросила она, – у тебя все равно практика в городе, а лишние деньги тебе не помешают.
– Еще как, – отозвалась я, все еще не решаясь согласиться: отказывать Оле после всех ее проявлений дружеского участия было бы форменным свинством, но и таскать горшки в летнюю жару не больно хотелось.



