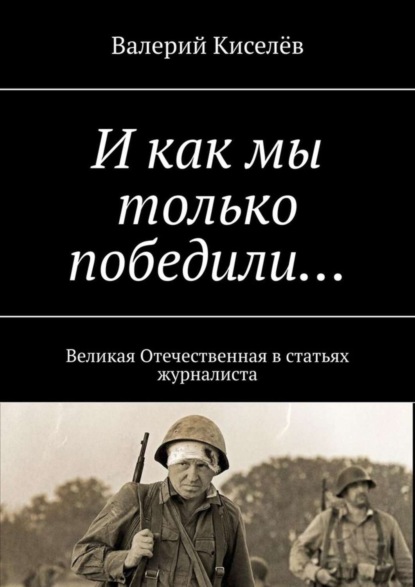
Полная версия:
И как мы только победили… Великая Отечественная в статьях журналиста
Несколько суток тяжелейших боев в направлении Литовни и Навли.
Андрей Червов, радиотехник батальона связи дивизии, капитан в отставке:
– Когда пошли на прорыв, нас, связистов, оставалось человек сорок-пятьдесят, да и то в основном из взвода лейтенанта Баранова. Хорошо помню, что его солдаты все были в маскхалатах. Бой начался на заходе солнца. Артподготовка у нас велась всего одним орудием, да и то его немцы быстро накрыли минами. Когда стемнело, все по команде поднялись в направлении выстрелов. Пробежали разбитую зенитную установку, около нее кто-то громко стонал. У подбитого немецкого танка валялись убитые танкисты. Рядом горела деревня. Потом шли в полной темноте – ни зги не видно. Напряжение было такое, что не замечали времени. Шли толпой, по сторонам и вдалеке стучали выстрелы. За нами ехали два наших броневика, потом обогнали. Шли всю ночь. Нас обгоняли повозки и даже танки. То и дело слышны пулеметные очереди, винтовочные выстрелы. Было очень тревожно, мучила неизвестность, риск нарваться на немцев…
Дивизия пробилась через заслоны гитлеровцев, но дальше ее частям пришлось идти на восток, не имея связи друг с другом.
К 19 октября у командира 137-й стрелковой дивизии полковника Ивана Гришина под рукой оставалось не более двухсот человек, с остальными своими частями связи он не имел.
В архиве Министерства обороны в фондах 137-й стрелковой дивизии хранится записка майора Туркина командиру дивизии: «В районе Гремячее – Трояновский наблюдаю большую автоколонну немцев. Несколько десятков автомашин с грузами перед деревней. Охрана небольшая».
В журнале боевых действий дивизии о том, что было дальше, краткая запись: «При выходе из окружения с 7 по 28 октября в районе Гремячее – Трояновский разгромили тылы 18-й танковой дивизии, уничтожив 150 автомашин, несколько танков и до 200 немцев, взяли в плен 60 человек».
В той обстановке это был крупный успех в масштабах всего фронта.
Как удалось выиграть этот бой небольшой группе измученных многодневными боями окруженцев? Много лет ушло на поиски тех, кто мог бы рассказать об этом бое, открыть еще одну страницу битвы за Москву.
Андрей Червов, участник этого боя, капитан-связист:
– От Литовни мы все время шли пешком. Ни деревень по дороге, ни привалов. На каком-то хуторке я выпил три ковша воды, сел – и никак не могу встать: ноги отекли. А идти надо. Выдернул кол, так и поплелся. Отстал и своих догнал только к ночи. Утром нас покормили, была еще какая-то кухня. Стоим гурьбой, подходит полковник Гришин, за ним упряжка с орудием и телега, на ней два пулемета и миномет. Построились и командир дивизии поставил задачу: атаковать колонну противника, которая была где-то за лесом.
Казалось бы, предстоящий бой – явная авантюра: атаковать растянувшуюся на три километра колонну противника силами двухсот солдат, многие из которых от изнурения едва переставляли ноги. Можно было просто пройти мимо, на восток. Никто бы не осудил за это полковника Гришина, никто бы ничего не узнал. Но тогда через несколько дней, когда грязь застынет, колонна двинется на Москву.
Полковник Гришин тщательно продумал организацию боя. Да и слишком велик был соблазн ударить по застрявшей в грязи колонне. Сначала разведку боем провел отряд капитана Балакина численностью 60 человек: ворвались в Гремячее и установили наличие огневых точек. Рядом действовал отряд майора Туркина.
Иван Егоров, телефонист батальона связи, сержант:
– Перед атакой майор Туркин послал меня и красноармейца Егорова на разведку: узнать, сколько немцев в деревне. Перешли речонку, а дальше плетень, ничего не видно, и деревья мешают. Я вернулся и доложил Туркину, что ничего не видно. – «Что, крови боишься? Иди на те тополя, пока не услышишь выстрел нашей пушки». Я понял, что мне предстоит вызвать на себя огонь немцев, чтобы наши могли их засечь. Пошел, потом залег у кустика, пополз – по мне огонь из автоматов из-за тополей, а вскоре ударила и наша пушка…
Николай Старостин, политрук роты батальона связи, майор в отставке:
– Главную роль в этом бою сыграла рота лейтенанта Михайленко. Численностью она была всего около шестидесяти человек. Сначала шли колонной, метров за восемьсот от дороги развернулись в цепь. Я и Михайленко шли на левом фланге, на правом – взвод лейтенанта Баранова, в центре группа во главе с сержантом Червовым. Лесом вышли к шоссе, залегли метрах в двухстах от дороги, хорошо были видны десятки автомашин. Здесь же была наша пушка, сорокапятка. Подошел артиллерист, старший лейтенант: «Подойдете к дороге, дайте сигнал, я открою огонь». Когда у нас все вышли на рубеж атаки, Михайленко поднялся и помахал фуражкой. Мы поднялись все и с криком «Ура»! бросились вперед…
Алексей Коробков, телефонист батальона связи, старший сержант:
– Нам четверым была поставлена задача уничтожить в колонне танк. Скрытно подползли, бросили в танк по гранате и он загорелся. Тут и наши начали стрелять. Мы бросились к машинам. Немцы, шофера, кто побежал, кто отстреливается. Начали их бить, кого и штыком. Михайленко шел в полный рост с пистолетом и клинком: «Ребята! Все за мной! Живы будем, будем отдыхать!» У меня как раз фляжку пулей с ремня сбило…
Сохранились в архиве и наградные листы на участников этой операции. Эти документы помогли восстановить картину боя. Первым в атаку бросился старший сержант Алексей Коробков, несмотря на огонь, уничтожил несколько гитлеровцев и увлек за собой товарищей. Красноармеец Григорьев уничтожил двух гитлеровцев, троих взял в плен, красноармеец Арисов меткими выстрелами убил троих, еще троих немцев уничтожил и семерых взял в плен сержант Папанов. Когда группа наших солдат была прижата к земле пулеметным огнем и несколько гитлеровцев пытались зайти им во фланг, красноармеец Яковлев уничтожил их, а тех, кто побежал, забросал гранатами. Сержант Гаврилов со ста метров выстрелами из винтовки уничтожил расчет пулемета, чем обеспечил продвижение вперед своих товарищей. Наибольший героизм проявили бойцы отделения сержанта Михаила Корчагина, которые не только уничтожили охрану колонны на своем участке боя, но и ворвались в деревню, добивали гитлеровцев штыками и гранатами на чердаках, в подвалах, сараях…
Андрей Червов:
– Наша группа численностью человек пятнадцать атаковала центр колонны. Получилось все так дружно и быстро, что немцы не сумели организовать сопротивление, хотя охрана колонны была не меньше нашего отряда. Все решила внезапность атаки. Стрельба поднялась такая, что немцы из колонны побежали в бурьян за дорогой. Левее вела бой группа лейтенанта Баранова, было слышно, как там взорвались несколько автомашин. Когда бой немного затих, я побежал к легковой машине, там на сиденье лежал портфель. Только я его взял – немцы поднимаются из бурьяна, с поднятыми руками. Я их построил и заставил рассчитаться, было их человек двадцать. Собрал документы, все немцы были шофера, пожилые. Подошел Михайленко и приказал отвести немцев к полковнику Гришину. Машин на дороге стояло очень много, у некоторых и двигатели работали. Машины были в основном со снарядами и с горючим. Съестного в машинах ничего не нашли, ребята собрали у пленных фляжки с ромом, выпили натощак. Ночь коротали у машин, а утром на нас вышел немецкий танк, как раз напротив нашей сорокапятки. Стрелял немец из пулемета и болванками, иная как даст по сосне – пополам. Одна такая болванка попала мне подмышку, перебило ремень, разбило саперную лопатку, она и спасла, но рука онемела. Потом у танка заглох мотор и наступила тишина. Снаряды у нашей сорокапятки кончились, лежим все, не знаем, что делать. Потом танк уполз и мы начали поджигать машины…
Николай Старостин:
– На нашем участке в некоторых машинах было продовольствие: консервы, шнапс, даже жареные куры, шоколад. Одна машина была с тройным одеколоном: наверное, немцы где-то грабанули наш магазин и везли его с собой. Забирали, кто что хотел, а остальное поджигали. Скоро полыхала вся колонна, начали рваться снаряды. Одна машина взорвалась совсем близко, что чуть нас не задело. Всего мы тут сожгли не менее семидесяти автомашин…
Семен Баранов, командир роты батальона связи, майор в отставке:
– В этот же день кто-то из местных жителей сообщил нам, что на соседнем хуторе стоит еще одна колонна, машин – видимо-невидимо. Старший лейтенант Михайленко приказал мне разведать хутор. Немцев не видно, а машин стояло больше двадцати. Некоторые были с обмундированием, остальные с продуктами. Пока набивали вещмешки шоколадом, подошел немецкий танк. Выстрелил один раз и почему-то уполз. Я пошел к своим и вернулись мы сюда уже всей ротой…
Андрей Червов:
– Начали жечь машины и здесь. Часть продуктов раздали местным жителям. Особенно много было муки, женщины ее брали, кто сколько хочет. Когда загорелась одна машина, в небо вдруг ударил фейерверк: машина была с осветительными ракетами…
Владимир Балакин, майор в отставке:
– Я тоже помню этот фейерверк. На этом хуторе мы сожгли машин двадцать с грузами. Успех всей этой операции был обеспечен прежде всего внезапностью и смелостью наших солдат. Помню, как немцы убегали от нас в одном белье. Ребята даже нашли на дороге генеральский мундир, кто-то еще мерил его под всеобщий смех…
Радовался и полковник Иван Гришин: его двести солдат разгромили тылы целой танковой дивизии. Ее наступление на Москву стало на долгое время невозможным. В этом бою было уничтожено около двухсот гитлеровцев, а наши потеряли всего одного человека убитым.
За организацию этого боя майор Андрей Туркин был награжден орденом Красного знамени, старший лейтенант Семен Михайленко, первым в 137-й дивизии, орденом Ленина. Медалями были награждены многие участники этого боя. А вот командира дивизии полковника Ивана Гришина командование за тот бой отметило скромно: медалью «За отвагу». Скупились в то время на награды командирам: армия отступала.
И снова на восток, догонять фронт, держать Гудериана «за хвост».
Андрей Червов:
– После этого боя до своих шли еще дней десять. Измучились до предела. Помню, как погиб мой товарищ Солдатов, родом из Арзамаса. Мы все время были вместе и он такой крепкий парень, а в тот день немцы загнали нас в болото. Он сел на кочку: «Не могу больше!». Как я его ни просил, что встань, иди – не может подняться. Вести его или тащить у нас не было сил. Мы пошли, а он остался на кочке. Когда я оглянулся, то вижу: к Солдатову подошел немец, приставил к голове автомат и дал очередь…
Тридцатого октября первые группы бойцов 137-й стрелковой дивизии вышли на станции Косоржа и Щигры. Здесь были уже свои. Подсчитали живых: 806 человек. Из 5200, которые были в дивизии до окружения. Эти 806 человек, растянутые на пятнадцать километров вдоль реки Красивая меча, еще две недели держали здесь фронт, не пуская немцев на Москву. И снова на карте красным карандашом были жирно нарисованы цифры: 137-я сд.
КУЛИКОВО ПОЛЕ, 41-Й ГОД
Деревенька Яблоново на берегу тихой речки Красивой Мечи. Всего несколько километров до исторического Куликова поля. В голове не укладывается, что и сюда, в самый центр России, поздней осенью 41-го приползли танки гитлеровского генерала Гудериана.
Из истории битвы за Москву большинству из нас известны хрестоматийные примеры: подвиги панфиловцев и подольских курсантов, партизанки Зои Космодемьянской и летчика Виктора Талалихина, конников Доватора и танкистов Катукова. О том, что на крайнем левом фланге Московской битвы, на подступах к Куликову полю, сражались наши земляки, известно, наверное, очень немногим.
Война здесь закончилась как будто бы год-два назад: на высоком западном беpeгу кое-где видны заросшие травой окопчики, воронки от разрывов снарядов. В деревне у каменного амбара с углом, развороченным немецким нарядом, старушка ругалась с козой.
– Немец из танка, – заметила мой удивленный взгляд старушка.
– Столько лет прошло, что ж не отремонтировали до сих пор?
– Некому, – сердито отрезала бабуля.
Немцы были здесь больше 50 зет назад…
После выхода из окружения под Брянском 137-я Горьковская стрелковая дивизия полковника И. Гришина была переброшена в район г. Ефремова и утром 5 ноября 41-го начала занимать отведенные ей 15 километров по берегу Красивой Мечи. Когда дивизия попала в окружение, в ней было 5200 человек, через 3 недели из него вышли всего 806. Задача была простой: не пустить противника на шоссе Тула – Москва. А соседей ни слева, ни справа.
В начале июля 41-го в дивизии полковника И. Гришина насчитываюсь 14 тысяч человек и около 200 орудий. Это было отборное соединение. Четыре месяца боев, три окружения, и вот остатки дивизии, несколько сот уставших бойцов, вгрызаются в тульскую землицу, еще одно окружение, и тем, кто останется в живых, прорываться придется в Арзамас.
Я прошел всю линию обороны дивизии, все ее редкие окопчики, выкопанные один от другого порой за сотни метров, а потом ночью у костра возле дороги думал и никак не мог понять: «Как же они удержались?» Отбиться здесь такими силами против пехотной дивизии, в которой было не менее 8—10 тысяч человек, да еще усиленной тремя отрядами танков, по всем канонам военной науки было невозможно.
Тогда дивизия имела два стрелковых полка, третий пропал в окружении. Вспоминаю рассказ начальника штаба 771-го стрелкового, полковника в отставке А. Шапошникова: «У нас в полку был один батальон, а в батальоне – одна рота. Таким же был и соседний полк». В полку – всего 150 штыков. Правда, имелось 50 пулеметов и 2 орудия. Настоящим подарком для командира дивизии было прибытие 17-го артиллерийского полка с 41 орудием. Но надо было еще суметь растянуть их на километров…
Впрочем, немец тоже был уже не тот, что летом. Гудериан повел свои дивизии в наступление на Москву, имея всего 50 проц. штатного состава танков, остальные ржавели на полях от Бреста до Брянска грудами металлолома. Из 200 тысяч автомашин, которые были у Гитлера на Восточном фронте в начале похода на Россию, на ходу осталось только 30 тысяч, остальные сгорели или требовали капитального ремонта. Некомплект в пехоте составлял 340 тысяч человек, половину. Лучшие гренадеры, прошедшие Польшу и Францию, лежали под березовыми крестами.
Но в генеральное наступление на Москву Гитлер бросил все же огромные силы: миллион солдат в 50 дивизиях, 1700 танков, 950 самолетов. На направлениях главных ударов превосходство гитлеровцев было 5-6-кратным. Начальник генерального штаба вермахта генерал-полковник Ф. Гальдер 4 октября 41-го не без самодовольства отметил в своем дневнике: «Операция „Тайфун“ развивается почти классически. Танковая группа Гудериана, наступая через Орел, достигла Мценска, не встречая никакого сопротивления».
Только 7 октября Сталин вызвал генерала армии Г. Жукова с Ленинградского фронта. Хотя бы на 4—5 дней раньше… В этот день, 7 октября, в районе Вязьмы были окружены 4 наши армии, в районе Брянска – еще 2. Позднее Г. Жуков написал в своих мемуарах, что это было катастрофой. Управление армиями и фронтами потеряно, обстановка неизвестна. Потом историки установили, что в середине октября 41-го против наступавших на Москву тысячи танков и 700 тысяч гитлеровцев стояли всего 90 тысяч наших солдат. Остальные войска Западного, Резервного и Брянского фронтов остались в окружении, и если бы они сдались в плен, а не держали Гудериана, Гота и Гепнера «за хвост», их танки ворвались бы в Москву.
Генерал армии Г. Жуков в это время закрывал основные дороги, ведущие к Москве, войсками, спешно снятыми с других участков фронта. Гитлеровцы, не считаясь с потерями, рвались к Москве, взяли Калугу, Можайск, Малоярославец, подходили к Туле. А 10 октября генерал Ф. Гальдер записал в своем дневнике: «…войска завязли в грязи и должны быть довольны тем, что им удается с помощью тягачей кое-как обеспечить подвоз продовольствия».
В начале ноября 41-го года гитлеровцы вынуждены были взять оперативную паузу. На подготовку решающего броска к Москве ушло 2 недели. Из резерва подошли еще 10 свежих дивизий, и 15 ноября гитлеровцы вновь перешли в наступление. Только на Истру шло 400 их танков, на Каширу – тоже 400. И каких-то 60 километров до Москвы…
На подступах к Куликову полю короткое затишье было прервано 14 ноября. В архиве Министерства обороны документы, рассказывающие о боях 137-й дивизии на Красивой Мече, лежали нетронутыми десятилетия. Видны были даже засохшие капли крови посыльного на записке одного из комбатов, в которой тот сообщал в штаб полка, что через его позиции прошли разрозненные подразделения нашей 6-й гвардейской дивизии. Ее солдаты кричали, чтобы все уходили отсюда, потому что если уж они не устояли, то другие и тем более не смогут. Гнали гвардейцев три группы танков, в общей сложности более сорока единиц.
На 50 автомашинах по хорошей, подмерзшей дороге гитлеровцы сходу пытались прорваться через Яблоново. Пять машин сразу же загорелись от метких выстрелов из сорокапяток. Отбита первая атака, вторая, третья. Пять суток стоял здесь 771-й полк, растянутый в нитку. Документы сохранили примеры удивительной стойкости наших солдат. Сержант С. Лукута один отбивал атаки немцев из своего окопа, уничтожив их не один десяток, пулеметчики И. Голованов и С. Кузин, каждый на своем участке, в первый же день отбили по две атаки, уничтожив по 20 гитлеровцев. Пулеметная рота младшего лейтенанта П. Ковалева отразила атаку немецкого батальона, после боя на поле насчитали более трехсот трупов.
В одном из донесений рассказывалось о бое, который вели семь бойцов во главе с лейтенантом Н. Солдатенковым. Несколько часов они сдерживали натиск гитлеровцев на переправе через Красивую Мечу. В их окопчиках под слоем земли я нашел груды ржавых гильз… В одном из них сражался и политрук роты А. Очерванюк. О нем рассказал мне капитан в отставке М. Багадаев:
– С началом наступления немцев я, тогда старший политрук, был направлен в 771-й полк. Отбитых атак не считали. Очерванюк остался от роты один, все солдаты были убиты или ранены. Когда я перебежками пришел на его позиции, он вел огонь, переползая от одного пулемета к другому. Помню, что у него было восемь ранений. Мы оттащили его в сторону, перевязали, а я лег за пулемет. Немного погодя помощника моего убило, а меня сильно ранило разрывом снаряда… А Толя Очерванюк умер от ран.
Генерал-полковник Ф. Гальдер, редко упоминавший из-за масштабов войны действия отдельных советских дивизий, 16 ноября записал в своем дневнике: «Упорные бои идут лишь северо-западнее Ефремова, где на стороне противника действует стрелковая дивизия, видимо, недавно сформированная в этом же районе». Он не знал, что это 137-я стрелковая, вышедшая из окружения под Брянском.
Гитлеровцы мощным бронированным кулаком пытались выйти к Ефремову, чтобы оттуда по шоссе прорваться на Тулу. О бое у деревни Ереминки рассказал майор в отставке, а тогда политрук батареи сорокапяток М. Василенко:
– В батарее было шесть орудий, окопались хорошо, ждем. Сначала – шум моторов, потом видим – веером» идут 12 танков. Я был за прицелом первого орудия. Подпустили танки поближе и открыли огонь. Поймал танк в прицел, выстрелил, он встал и задымил. Потом поджег еще один.
Все просто и ясно, как о работе.
Потеряв в этой атаке 6 танков, гитлеровцы повернули назад. У села Кадное они атаковали 34 танками, прикрываясь согнанными местными жителями. В этом бою 6 танков подбил сержант М. Кладов. Попробовали гитлеровцы прорваться у села Крестище, но и здесь их встретило орудие М. Кладова. Он один вел бой с 20 танками, подбил 3, был ранен, но стрелял, пока оставшиеся 17 танков-не вышли из боя. Первым в 137-й стрелковой дивизии сержант М. Кладов был представлен к званию Героя Советского Союза. Но в наградном листе с описанием его подвига я прочитал: «Награда не вручена». Вряд ли он мог остаться живым в такой войне, но на всякий случай послал запрос в село, откуда М. Кладов был родом. Ответ от местных властей пришел странный: «Михаил Кладов живет в нашем селе, но у него нет оснований гордиться своими былыми подвигами». Как это «нет оснований», если он подбил 9 танков и о нем до сих пор помнят его однополчане?
Пришлось ехать на родину М. Кладова. Тяжелая это была встреча. В райвоенкомате мне рассказали, что в 43-м М. Кладов во время боя дезертировал и все оставшееся время войны скрывался у себя дома в деревне. После победы, правда, был амнистирован, но в родном селе его все считают дезертиром, а о награде никто, в том числе и сам он, ничего не знал. Военком, узнав, что в архиве я нашел на М. Кладова наградной лист, схватился за голову: с одной стороны – награда нашла героя, но как же ее вручать дезертиру?
Долго говорили мы с М. Кладовым о боях на Красивой Мече. О его дальнейшей судьбе – ни слова, ни я, ни он. Только когда прощались, он вдруг заплакал: «Не пиши обо мне ничего, какой я герой…» Награды своей он так и не получил. И я так и не понял, как он мог сломаться в 43-м, если выдержал ад 41-го, начиная от Бреста.
А его 137-я дивизия тогда, в ноябре 41-го, на Красивой Мече все же не устояла. Гитлеровцы потеряли не одну тысячу своих солдат и 25 танков и ни за что не прорвались бы к Ефремову, если бы не предатель из местных жителей. Он провел колонну танков к городу. Эту историю мне подробно рассказал А. Шкурин, начальник особого отдела полка. И каково же было мое удивление, когда в краеведческом музее г. Ефремова на одном из стендов я увидел фотографию со знакомой фамилией. Тот самый, предатель. Сотрудники музея ничего не знали об этой истории, до войны он был в числе уважаемых людей. Фотографию сняли. Переделали и схему боев в районе Ефремова: 137-я Горьковская дивизия на ней даже не значилась.
А тогда развить успех на этом направлении гитлеровцам все же не удалось. Ф. Гальдер 21 ноября записал в своем дневнике: «Гудериан доложил по телефону, что его войска выдохлись». Еще несколько дней гитлеровцы пытались атаковать, порой силами всего по 20—30 человек, но безуспешно. К началу декабря наступление гитлеровцев на Москву окончательно захлебнулось. Не сумели немцы выйти и на историческое Куликово поле, чего так добивалось ведомство Геббельса.
Полковник А. Шапошников, с которым мы часто говорили об этих боях, на вопрос, как же тогда им удалось устоять, ведь в июле 41-го немцы такими же силами смели бы их, даже не заметив, ответил просто и без высоких слов: «У нас после трех окружений в полку остались такие солдаты, что если зацепятся где, то ничем их уже не сковырнешь, их даже убить было трудно, потому что лучше немцев воевали. Люди чувствовали свое превосходство над противником даже в те дни, когда все висело на волоске».
Об этих людях можно сказать и словами древних: «Их мужество возрастало с уменьшением их численности». И это тоже будет правдой.
В НЕМИЛОСЕРДНОЙ ТОЙ ВОЙНЕ
спасали раненых наши девушки-медсестры, теряли любимых
«Анна, Анечка, сестричка». – так звали ее командиры и товарищи, потому что на войну Анна Ивановна Ермоленко сумела попасть 16-летней девчонкой. Сейчас ей и самой трудно представить, как она вынесла это на девичьих плечах – августовские 1941-го бои под Киевом, трагическое сентябрьское окружение, когда погибли войска четырех армий, а ей удалось вырваться из него чудом с небольшой группой бойцов. Она в числе последних видела погибшего в окружении под Киевом командующего Юго-Западным фронтом генерала П. Я. Кирпоноса – перевязывала его в роще Шумейково в ночь перед прорывом.
Тогда ей выпало жить, но впереди была еще целая война – километры бинтов на раны, кровь, стоны, смерть и длинный путь от Подмосковья до Кенигсберга.
– Когда наша дивизия наступала, – рассказывает Анна Ивановна, – за сутки в медсанбат поступало обычно по 600—700 человек раненых. Смены медперсоналу не было никакой, работали до тех пор, пока не сваливались от усталости. Потом по очереди уходили на два-три часа отдохнуть и снова за работу. Казалось, только положила голову, а уже будят, надо дать отдохнуть другому. Наш хирург, доктор Комоцкий, очень высокого роста, физически крепкий человек, над операционным столом стоял по двадцать часов, не разгибаясь. Делал самые сложные операции. Врачей не хватало, поэтому часто ему приходилось оперировать одному и без передышки, а мы, медсестры, помогали ему, сколько могли.
В большой перевязочной стояли три стола, в операционной – два, и на каждый стол клали раненых для обработки и операции. В операционной медсестре приходилось подавать инструмент и материал часто сразу двум или трем врачам. Тут нужна была внимательность, подвижность, наблюдательность. А какой ловкостью Должна была обладать каждая медсестра, чтобы на коленях, на общих нарах, в землянке или в палатке, при свете коптилки попасть в вену, перелить кровь самым тяжелым раненым, которые находились в шоковом состоянии, обескровленные, с оторванными руками, ногами…
Стояли мы в каком-то совхозе. Эвакуация раненых шла с трудом – машины буксовали, лошадей не хватало, а раненых было очень много. Мы еле успевали обрабатывать первичных, а уже надо было вторичные обработки производить, так как развивались гангрены. На еду у нас времени вообще не оставалось – повар по два-три раза разогревал и звал поесть, пока уж не вмешивался командир медсанбата.



