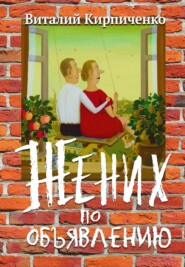
Полная версия:
Жених по объявлению

Виталий Кирпиченко
Жених по объявлению
Сборник
© Кирпиченко В. Я., 2023
© Оформление. ОДО «Издательство „Четыре четверти“», 2023
Рыжий
Повесть
Родился я… Нет, не так: выродили меня, не спросив даже, а хочу ли я этого? Если бы спросили, я бы подумал, стоит ли мне появляться в этом мире в это время. Холод, голод, аресты и расстрелы, войны…. Пожалуй, я бы переждал это жуткое время и согласился бы появиться на свет, когда не надо думать о куске хлеба, о глотке чистой воды, не надо прятаться от вражеских и своих бомб и снарядов, от пуль террористов. Для этого, наверное, мне пришлось бы ждать долго, может быть, и не одно столетие. Может быть, и несколько тысячелетий. Опять же, что будет через такой большой срок, кто это знает? Может, и самой Земли не будет. Если послушать пугающие рассказы умных дядей, то Земле ждать хорошего не приходится. Одни ученые мужи говорят, что земля стремительно приближается к Солнцу и должна скоро сгореть, прежде выделив огромное облако водорода и прочих ядовитых веществ, которые вытравят все живое. Другие утверждают обратное, но тоже неутешительное. Совсем неутешительное. Они прогнозируют Земле превратиться в ледышку, болтающуюся в космическом пространстве, в которой мы будем замурованы, как это уже случилось до нас с мамонтами. Произойдет такое из-за вдруг проснувшихся вулканов, которые закроют пеплом атмосферу. Если же вулканы по какой-то причине не прислушаются к гипотезам «яйцеголовых», наплюют на их таблицы и графики и лениво будут ворчать, пугая доверчивых жителей земли обетованной, все равно Земле не избежать переохлаждения: Солнце, как всякий материальный объект, имеет свое начало и свой конец. Ему тоже грозит холодная или горячая – тут тоже до конца пока не решили ученые – смерть. Человеку, правда, от этого ни холодно ни жарко, – разницы большой он не видит. Только разве ради справедливости. Если ученые сказали, что сгорим, то надо бы и сгореть. Если же подумать, то лучше найти покой в глыбе льда. Через много-много веков какой-нибудь инопланетянин откопает тебя и возродит. Даже если тебя тогда будут показывать во всей вселенной как ископаемое чудовище, все равно это лучше, чем превратиться в пепел.
Через тысячу лет Земля будет сплошным раем, потому что до людей наконец-то дойдет, как надо жить. Всего полно, все для всех доступно. На гиперзвуковой индивидуальной ракете я буду летать в гости к другу, который отказался от цивилизации и живет в Магадане. От Минска до ракетодрома Магадана я долечу за 17 минут, а от Магадана до его хижины 75 верст, их я преодолею, если не будет распутицы, на маршрутке на воздушной подушке, за 5–6 часов. Зато какая у него уха! Уха самая что ни на есть натуральная, архиерейская, на костре из лиственничных дров, с петухом!
К такой жизни человек придет только через войну. Всеобщую, разрушительную. Государства, боясь соседа, накопили такое количество сверхмощного, сверхразрушительного, сверхточного оружия, что не избавиться от него было бы большой опасностью. Избавились. Вся земля в обломках, руинах и развалинах. Небо плотно закрыли тучи из пыли и пепла. Понадобилось всего лишь триста лет на восстановление «разрушенного войной хозяйства». Восстановили. Стало краше, чем было. Такую жизнь, конечно, надо защищать. Для защиты нужны солдаты и сверхмощное оружие…
И это еще не все!
Через тысячу лет человек высосет из Земли всю нефть, газ, вытащит наверх весь уголь, превратит его тоже в дым и пепел. Внутри Земли образуются пустоты, в них провалятся тяжелые горы. Кордильеры, Альпы, Кавказские горы, Ала-Тоо, Тибет сравняются с пустыней. Альпинисты переквалифицируются в спелеологов. Земля скукожится, сократится в размерах, завращается быстрее вокруг своей оси, сутки укоротятся, рабочий день и, соответственно, зарплата уменьшатся, число безработных возрастет. К проблеме сокращения поверхности Земли добавится проблема перенаселения… Будет обязательным знание китайского. Ужас! Краху райской жизни придет конец.
Наверное, все же мне повезло со временем рождения.
Маленькие скудные мыслишки о времени рождения незначительного существа расползлись на всю вселенную. Это пример того, как вредно думать вообще. А если думать обо всем и всех? Это же Бог знает что! Это уже политика! А где политика, там полный провал! Там жди беды! Вот и вывод: родиться надо тогда, когда не будет политиков, сталкивающих лбами народы и государства. Будет ли когда такое время, одному Богу известно. И Он не спешит нам открывать сию тайну. Скажи Он, что с такого-то числа исчезнут все политиканы, и что тут начнется! Однако же далеко я зашел! Вернемся к началу. Меня родили…
Меня родили в деревенской избушке, родили ранним воскресным утром. Тут подкопаться не к чему. Воскресенье есть воскресенье! Это не пятница, и тем более не понедельник. Хотя и здесь, если опять же подумать, разницы нет никакой. В деревне в то время никаких выходных и праздничных дней не было. Была сплошная работа! Работа во имя работы! Работа во имя Жизни!
Выродившись, я не увидел рядом счастливого отца. Наверное, потому, что до меня уже успели его порадовать своим появлением на свет дочь и два сына, и я был ему уже не в новинку. Радость, если она была, отец расточил на предыдущих. Я тут, пожалуй, случайный, непредсказуемый, даже непрогнозируемый. В деревне в то время нежеланных детей не было, так что можно считать, и я получился кстати. Пригодится, мол, в хозяйстве. Сначала будет, если еще не умрет от какого-нибудь дифтерита, шугать кур с грядок, потом научится таскать воду с речки, поливать огород, гусей на луг выгонять, телят встречать… Незаметно, лет в двенадцать-тринадцать, он станет мужиком. Работником, кому любая работа по плечу! Но это светлое будущее потом. Сейчас же я краснорожее, кричащее существо, которому говорят, что оно похоже на деда, – ну прямо вылитый дед Иван. Отцов отец. Второй дед тоже Иван, но не тот Иван. Он черный, а отцов дед Иван рыжий. И я рыжий. Имени у меня пока нет, но, думаю, назовут меня Иваном. Зачем голову ломать в выборе имени! Иван! Ванька! Можно Ванюшка, но до этого в деревне редко доходят. Иван и Ванька – этого достаточно. Сначала Ванька, потом Иван. Это уже когда у тебя будет седая борода и лысая голова. Можно остаться на всю жизнь Ванькой. Для этого совсем мало надо. Я не хочу быть вечным Ванькой, хоть и уродился рыжим.
В избе пахнет кислым. Потолок неровный, в некоторых местах отскочила побелка. В маленькое окно пробивается жиденький лучик света. Что-то громко хлопнуло, кто-то крикнул, хрюкнул. И других звуков полно: по сравнению с той тишиной, что была, это просто оркестр какой-то. Слышу, ставший уже знакомым, скрипучий голос:
– И этый рыжий, как евоный батька. Одна гидота!
– Что уже ты, мама, так! – отвечает родной голос. – Ну рыжий, так что? Да и не рыжий он, а золотой! И глазки у него голубенькие!
– Поросячьи, – не соглашается скрипучий голос.
– Кулачки вон какие крепенькие!
– Чего уж хорошего, а кулаки мы знаем. Бегали от них, и не раз.
– И мы не всегда бываем правы. Когда и кулак подсказка, правда же, сынок? – воркует мама.
– Дуре все хорошо, лишь бы не как у людей.
Я еще не знал, чью сторону принимать. Понимал, что говорят о моем отце, а какой он, я этого не знаю. Попросту я его еще не видел.
Отец появился ближе к вечеру. Я слышал, как заскрипели ворота, как кто-то грозно выругался, протопали мягко копыта лошади. Хлопнула дверь.
– Ну, как он тут? – спросил грубый голос. – Пищит?
Мне хотелось ответить в той же манере, но я сдержался. «Подожду еще, посмотрю. Может, не так он и плох».
– Попискивает, – отвечает близкий мне голос.
– Надо бы свозить его да записать, – грубый голос. – Или подождать на всякий случай…
– Можно и записать, что еще может случиться, – неуверенный, родной голос. – Он здоровенький у нас!
– Управимся с работами и свозим. Сейчас каждый день год кормит. Или когда задождит, свозим.
– Нонче дождя было мало, если только осенние пойдут.
– Спину всю ночь ломило, может, к дождю.
– Тучи все небо обложили с утра, думала, что-то будет, а потом к обеду развиднело.
– Время подпирает, успеть бы картошку без грязи выкопать.
Слышу тяжкий вздох.
– Кто ж ее копать будет. Дети малые, и я не могу еще…
– Не такие они и малые, и тебе надо через не могу. Жрать-то что-то надо целый год.
– Завтра начнем потихоньку, – соглашается мама, и мне ее становится жалко. Хочется крикнуть ей, чтобы она возразила отцу, да не знаю как. Я напыжился, но это вылилось совсем в другое.
– Серун! – небрежно бросил отец и хлопнул дверью.
– И никакой я не серун, скажи, а хороший здоровенький мальчишка, – заворковала мама, меняя пеленки. – Я, скажи, буду трактористом или летчиком, тогда, скажи, узнаешь меня…
Хлопнула дверь, затопали тяжелые сапоги. Сердитый голос:
– Маленький, а вонючий! Что будет, когда вырастет…
– Человеком будет! – Голос мамы крепчает, и меня это радует.
Мне уже три месяца. Я знаю каждый сучок на потолке, каждую трещинку на темном бревне стены. Слышу какую-то непривычную суматоху в избе, громкие торопливые разговоры. Меня обмотали во что-то толстое и тяжелое. Понесли куда-то… Резкий свет ударил по глазам… Дышать мне трудно, холодный воздух закупорил глотку. Скрип саней, покачивание и потряхивание меня не беспокоят, а даже как-то успокаивают, убаюкивают. Под этот скрип и покачивание я уснул. Долго ли я спал, не знаю. Проснулся от новых звуков. Дверь скрипела не так, как наша, и половицы стонали глухо, натужно, презрительно к ходокам из сел и деревень.
– Покажите, что у вас? – Голос чужой, сухой, безразличный.
– Сын, – отвечает мама. Отвечает не своим, а каким-то испуганным голосом.
– Сколько ему?
– В сентябре ему… родился…
– Число?
– Какое число? – не понимает вопроса мама.
– Какого числа родился? – Нервный, недовольный голос.
– А-а, это… На Сдвиженье. Утром. И снег когда…
– Я что, должна знать, когда было ваше Сдвиженье со снегом?
– Двадцать седьмого, – вступает отец, но голосом, мне сдается, чужим. Приторным. Угодливым.
– Имя?
– Кого? – опять не понимает мама.
– Вашего сына. – Опять тяжелый вздох регистраторши: «Ох, уж эта деревня!»
– Ванька, – отвечает отец. Поправляется: – Иван.
– Нет! – возражает мама, к моей радости, и не потому, что я не хочу быть Ванькой, а потому, что мама возразила. Да еще как возразила!
– Какое?
– Не Ванька! – от волнения мама заикается. – Это… как его… Как Чкалов… Летчик.
– Валерий, что ли? – в голосе неприкрытое удивление.
– Да, он. Валерий!
– Вы согласны? – это к отцу.
– А мне что… Пускай этот самый… Ну, как вы сказали…
В свидетельстве о рождении, которое сжевал следующей зимой теленок, я значился как Орлов Валерий Иванович. К моему имени, непривычному для деревни в далекой Сибири, отнеслись каждый по-своему. Кто-то доброжелательно: пора-де и новыми именами обзаводиться. Другие, кривя рот брезгливо, передразнивали: «Валера-халера. Валерка – тарелка! Тьфу!»
Пока я учился ходить и говорить, мне было все равно, как меня называют мои братья и сестренка. Отец никак не называл, мама – нежно: Лера, братишки – кто как, сестренка – как мама, нежно, любя, как куклу, пока она новая. Потом, когда я вышел на простор, на улицу, увидел там множество детей и заковылял к ним с улыбкой радости на лице, то услышал, повторяемое эхом: «Рыжий, Рыжик!» А кто-то бойко пропел: «Рыжий-Пыжий, конопатый, убил дедушку лопатой!»
Бабушка Арина не любила меня. Ни разу не погладила по головке, слова ласкового не сказала. Смотрела на меня как-то сбоку, косо, как прицеливаясь. Если мы прибегали всем гуртом к ней, то угощала она всех с любовью, только не меня. Она совала пирожок кому-нибудь из братишек и говорила, кивнув на меня: «Дай и ему тоже».
Мама переживала, но ничего поделать не могла.
– Не заставляй меня. Не люб он мне. Весь в этого непутевого, где тольки ты его выискала!
– Дите-то при чем? В чем оно виноватое? – не скрывая слез, упрекала мама бабушку.
Но та стояла на своем, постоянно находя во мне какие-то недостатки, которых не избежал ее нелюбимый зять, мой отец.
– Такей же будет, – махала она рукой. – Яблоко от яблони… Рыжий, и глаза как у порося.
– С чего ты взяла, что как у порося? Совсем не такой он. И глазки голубые, и реснички пушистые…
– Белые, как у телка!
– Ну вот! Уже как у телка! Он же твой внук, а ты…
– Усе мае внуки добрые, тольки не гэтот… Варелка гэтот, чи как? И имечко же придумали! Мало ему свово горя, так ще имечком, прости Господи, наказали. Варелка! Тьфу!
Я перестал бегать к бабушке Арине и стал присматриваться к другой моей бабушке – Клаве. Отцовой маме. Та меня никак не воспринимала. Не говорила плохо обо мне, но и не ласкала. Был я для нее как печь или стол: стоит, ну и пускай стоит, значит, так надо.
Но не все так меня не любили, как бабушка Арина. Любила, жалеючи, мама. И еще тетя Настя. Сестра отца.
– Как живешь, мое солнышко? – спрашивала она меня при встрече, крепко обнимала и целовала. Я смущался, терялся, не знал, что говорить. – Мы с тобой как два солнышка. Я побольше, ты поменьше, но ты ярче, красивее! – продолжала обнимать и целовать меня тетя.
Глядя на нас, мама готова была расплакаться. Она простила тете Насти старый упрек, когда та назвала маму плохой хозяйкой, неумехой, неспособной копить деньги. И отец повторял этот упрек.
– Не буду я брать деньги с соседей за кружку молока! – категорично заявила она тогда отцу, и у того хватило ума не говорить больше об этом.
– Копейка в доме не была бы лишней, – сказал он, как извиняясь. – Лидке к зиме бы катанки…
– Где им взять деньги за молоко, если нет на соль и керосин?!
Тетя Настя была тоже рыжая. На солнце ее голова светилась ярко-красной медью. Ее все любили, и никто никогда не дразнил рыжей, конопатой. Она всегда была веселой, звучно смеялась, сверкая белыми, как сахар, зубами.
– Отгадай, что я тебе принесла? – спрятав руки за спиной с этим «что-то», спросила как-то тетя Настя.
– Машинку! – обрадовался я.
– Молодец! Как ты быстро угадал? Увидал, наверное?
Ничего удивительного тут не было. Мы с мамой ходили в магазин, и я там видел на прилавке машинку. Яркую! С кузовом зеленым! С дверцами, которые открываются. Попросить маму, чтобы она мне ее купила, было стыдно: в доме у нас не было на это денег. И я после этого ничего больше не видел и знать не хотел. Мне снилась по ночам маленькая, с зеленым кузовом, с открывающимися дверцами машина. Как я мог после этого не угадать подарок тети Насти? Конечно, машина!
Нес я машину, прижав к груди, как самое дорогое и любимое приобретение. На улице, под окном нашей избы, была огромная – мне так казалось – куча земли, именно то, что мне так было необходимо. Сидя на куче красновато-желтой земли, я нагружал старой щербатой ложкой кузов машины поверх бортов и медленно, натужно, с подвыванием, вез на другую сторону кучи груз, там его, тоже не без характерных звуков, сопровождающих выгрузку грунта, сваливал. Долго выезжал, смыкаясь назад-вперед, а выехав на проторенную дорогу, весело спешил к «карьеру» за новой порцией груза.
Был холодный осенний день, дул северный, от Байкала, ветер, но мне было не до холода. Я был занят настоящим нужным делом.
Ночью мне стало плохо. Шумело в голове, глаза не хотели открываться, и какая-то тяжесть во всем теле. Ко мне мягко подошла мама, положила ладонь на мой лоб.
– Иван, он весь горит! – сказала она. В голосе мне непонятная тревога.
– Что там еще? – недовольно отозвался отец.
– Он весь как кипяток! – повторила мама и опять приложила руку к моему лбу.
– Ну так что теперь? – не знал, что делать, отец.
– Заболел он!
– Беги к Насте! Скажи ей.
Слышу глухой топот шагов во дворе, потом в сенях, потом в избе.
На лоб легла ладонь. Холодная.
– Температура, – тихо, как задумавшись о чем-то, сказала тетя Настя. Добавила: – Высокая.
– Что делать? – Не вижу, но знаю, как испугана мама.
– Сейчас я! – говорит тетя и быстро убегает. Также быстро возвращается.
Меня стали протирать чем-то влажным, прохладным и вонючим. Сунули в рот ложку с горькой водой. Я проглотил, мне даже не хотелось выплюнуть эту мерзость.
Когда я проснулся, в оконце светилось яркое солнышко. Около меня, нахохлившись, как большие черные птицы на суку, сидели мама и тетя Настя.
Первой вскочила мама.
– Сынок, – схватила она меня за руку, – что у тебя болит?
– Не знаю, – ответил я, расклеив запекшиеся губы.
– Головка болит?
– Тяжелая она, – ответил я, прислушиваясь ко всему телу, выискивая больное место.
– Животик не болит?
– Н-не. Не болит.
– Горлышко? – перечисляла мама все, что могло болеть во мне.
– Тоже не болит.
– А что болит?
– Ничего не болит. Машинка моя где?
– Господи! – воскликнула мама уже веселым голосом. – Мы тут глаз всю ночь не сомкнули, а ему машинка! Да целая она, никуда не делась!
– Дай мне ее, – попросил я. А взяв в руки свое сокровище, мне тут же захотелось грузить, отвозить по ухабистой дороге груз, сваливать его вдоль дороги и опять спешить в «карьер».
Воспаление легких перенес нетяжело, но долго пришлось потом ходить закутанным. На улицу не пускали. А так хотелось показать свой грузовик всем, чтобы знали, какая у меня красивая и важная машина.
Подравшись несколько раз, мне удалось добиться от окружения если не уважения, то боязни быть битым за оскорбление. Мне перестали говорить, ядовито прищурясь, при игре в чижика: «Ну, ты! Рыжий! Твоя очередь!» От этого я не стал другим, голова моя, обрастая волосами, светилась золотом даже больше, чем раньше, но рыжим меня уже не дразнили.
В школу я пошел совсем не потому, что мне туда хотелось, а потому, что так родителям приспичило.
– Раньше закончит, год будет в запасе, – говорил, не скрывая правоты своего решения, отец. – Не поступит в институт в первый год, до армии останется еще одна попытка. Да и что дураку шлындать попусту по улицам целый год?! Я уже в его возрасте в колхозе наравне с мужиками вкалывал.
Не зря мне не хотелось в эту дурацкую школу! Столько незнакомых, все разные, все какие-то молчаливые, напуганные. Это я о первоклашках. Учительница Зусия Юсуповна – язык сломаешь – долго не могла рассадить по местам: тот косой, тот кривой, эта глухая, у этой очки, как бинокль, а мест впереди – с гулькин нос. Не знаю почему, но меня всунули в самую середину, а мне хотелось к окну. Там можно хоть изредка поглядывать на улицу. Но я смирился и с этим. Сулия Суповна привела ко мне пучеглазую, курносую, с идиотскими бантами, как у слона уши, девочку. Девочка, глянув на меня, потупилась и отказалась сесть рядом. Она, надувшись, глядела на носки своих туфелек и что-то бормотала.
– Почему ты не хочешь садиться за эту парту? – наклонилась к девочке Суповна.
– Он рыжий, – услышал я, и меня как кипятком обварили.
«Ну, гадина! Я тебе это припомню! – взбеленился я. – Ты у меня еще попросишь прощения! Патлы твои куцые совсем повыдергиваю, жаба болотная! Глаза как у рака, а туда же!»
Ее посадили с мальчишкой, так тщательно причесанным, что, казалось, волосы приклеены к бледному черепу. Звали его громким непривычным именем Эрнест-Хемингуэй.
Зусия Юсуповна долго не могла понять, где имя, а где фамилия у этого чудо-мальчика с приклеенными волосами, похожими на тряпочку на макушке.
– Имя твое Эрнест? – смотрела выжидательно она на Эрнеста.
– И Хемингуэй, – отвечал тот.
– Но… Хемингуэй – это фамилия. Эрнест Хемингуэй. Был такой писатель. Американский.
– Фамилия моя Пересятько.
– А отчество? Папу как звали? Хемингуэй? Валентин? Может, маму так звали? Мама – Биссектриса?
– Руставельевна.
Сбитая совсем с толку, Зусия Юсуповна посадила лупоглазую девочку с причесанным Эрнестом-Хемингуэем, мама которого Биссектриса Руставельевна, подошла к окну и долго, не моргая, смотрела вдаль.
«Что этой гадюке сделать? – вспоминал я все мне известные козни. – Воды в портфель налить? Гвоздь вбить в скамейку? Сумкой в суматохе садануть по башке? Подножку на лестнице, чтобы кубарем вниз? – Все наказания были такими мелочными и слабенькими, что я себя уважать за скудость ума перестал. – Вот бы ворону ей в портфель! – Вырисовывалась картина отмщения. – Она открывает его, а оттуда она! Или лягушку! Она туда руку, а там холодная лягушка! Она как закричит, все со смеху помрут! А если ежика ей под зад подсунуть? Где его поймать? Я живого никогда не видал. И лягушку где сейчас найти… Ворону попробуй поймай!»
Пробовал найти что-нибудь из взрывающегося, что могло бы перепугать насмерть эту с кнопкой вместо носа, но тоже неудачно.
Весь остаток дня я потратил на придумывание прозвища своей противнице. Чего только я не прикладывал к ней, все было не смешно. Бутылка, Слониха, Дочь булочника, Колбаса-в-тесте… Все не то! Крокодилиха. Макака. Обезьяна. Зебра. И со зверями не повезло.
«Ладно, потом придумаю, – решил оставить на время дело с прозвищем. – Дней еще много».
Учиться было не то чтобы неинтересно, но и ничего интересного. Палочки, кружочки, крючочки. Сиди тихо, никому не мешай. Хочется вскочить и бежать с куском хлеба на улицу, туда, где ребятня визжит от восторга. Где солнце и свобода! Да куда там! «Не крутись! Не вертись! Не мешай заниматься детям!» Дети сами бы давно убежали на волю, да кто ж их отпустит?! Переменка на один вдох! И тут же звонок на урок. Опять палочки, кружочки, крючочки… Не мешай, не вертись! И так десять лет! Я столько не жил, сколько буду учиться. Может, что-то случится и меня освободят от этой школы? Какое-нибудь землетрясение? Пока новую построят… Хорошо бы война какая. Я бы тогда убежал воевать. Пистолет! Калаш! Гранаты! Немцы бегут в страхе, а я: «Тра-та-та-та…»
– Ты почему не работаешь? – рука легла на мое плечо. Тяжелая такая. – Работай, не ленись! Аккуратней выводи кружочки. Наклон соблюдай.
«Господи! И так десять лет?» – воскликнул я куда-то себе в брюхо.
Выскочил из класса я первым, да и из всей школы тоже. Простор! Ширь! Воздух! И никаких кружочков!
Скоро около меня бежали и визжали все остальные, как впервые увидевшие свет щенята. Толкотня, шум, гам. Кто-то предложил сыграть в футбол. Вместо мяча – жестяная банка, ворота – два портфеля. Потные красные лица – и море удовольствия!
Кто-то закричал, что надо домой. Сорвались, побежали.
– Ну как? Понравилось в школе? – спросил дед Иван, внимательно разглядывая меня. Разглядев, спросил: – А где твой портфель?
«Какой портфель? Мой портфель? Да он же там, на воротах!»
Портфель мой мирно дремал у камня посреди улицы. Не было бы камня, кто-нибудь уже проехался бы по нему. Ротозеев у нас в деревне как нигде!
Еле-еле дотянул до каникул. Неотступная мысль сбежать в Африку все больше обрастала фактами неизбежности этого побега. Там тепло, слоны, буйволы, крокодилы, а солнца сколько! И свобода со всех сторон. Живи в хижине, живи просто под теплым небом. О пище думать не надо: все растет на земле и деревьях. Дома же постоянные команды сделать то, сделать это. И самое страшное – глаза отца при просмотре дневника.
– Н-ну?
Я готов превратиться в маленького мышонка, чтобы шмыгнуть под стол, а там в дырку между стеной и печью.
– Не научившись подчиняться, не берись приказывать! Это тебя не касается?
Куда деться от этого взгляда?!
– Ка-ксается, – тут же соглашаюсь я, не постаравшись даже разобраться в смысле услышанного. Понял, что надо всегда и всем подчиняться, не перечить. Я это и раньше знал. А при чем тут приказывать? Разве я кому-то приказывал? Не приказывал. Сами все смеялись, когда я показывал им вывернутую шапку из-под парты. Они смеялись, а мне замечание записала в дневник Суповна.
– Выпрут из школы – пойдешь колхозным коровам хвосты крутить! Пастухом! – рисует мой тернистый путь отец, и этот путь, если судить по его выкрику, совсем не тот, что мне нужен. А я, представив себя в дождевике, верхом на лошади, с длинным кнутом и папироской в зубах, был даже рад такому выбору колхоза. Тут же никакой зубрежки. Никаких ноликов и палочек с крючочками! Никаких замечаний и угроз. Сиди верхом, пощелкивай бичом, покрикивай крепкими словцами на коров и гляди в огромное небо, сколько в тебя влезет. Я уже хотел сказать отцу, что я согласен быть пастухом, да перебила мама.
– Ну что уже такого он сделал, что его так ругать надо? – Вступилась она за меня. Мне хотелось остановить ее, потому что знал, что отец перекинет «огонь» на нее. Но как это сделать? – Дети же, не чурки!
– Хоть бы раз помолчала, – хлопнул ладонью по дневнику отец, – если не знаешь, что говорить! Ну, давай, помогай ему быть бестолочью! Потом – Бодайбо, Колыма! Нары!

