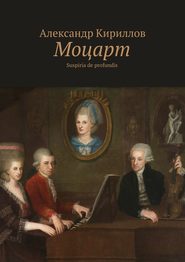
Полная версия:
Моцарт. Suspiria de profundis
ОТЪЕЗД
Я написал эту фразу и тут же зазвучала во мне тема Анданте из Концертной симфонии для скрипки и альта (Es-Dur), сочиненной им уже по возвращению в Зальцбург (1779), два года спустя после заказанного м-ль Женом фортепьянного концерта.
Это Анданте и Андантино из концерта для м-ль Женом ведут между собой через годы безутешный и только им понятный диалог. Андантино драматично, так как еще только предчувствует или, точнее, провидит будущее, уготованное Вольфгангу (затрудненное дыхание, местами с приступами настоящего удушья, стесняет неторопливую, словно на исповеди, скорбную речь); Анданте – трагично, но уже без мрачности: покойно, печально, просветленно, потому что всё уже позади, свершилось. И теперь мне понятно, откуда у Моцарта вдруг этот тягучий («таборный») мотив главной темы в Анданте. Это скорбь «Вечного Жида» о навеки утраченном доме, которым был для Моцарта не столько пятачок земли, с населявшим его германским народом, но весь мир. Таким он представлялся ему в Зальцбурге из окна тюремной крепости, куда его снова упрятали, где ждала его всё та же камера, обмятый его боками тюремный тюфяк, неизменный надзиратель в облике отца, изученный им до характерного звука шагов, менявшихся в зависимости от настроения.
До побега – он знал путь на волю, и где та стена, под которой готов был подкоп. После побега – стена выросла внутри него, а за стеной осталось похороненным всё то, что еще недавно с такой силой и обещаниями звало на волю. Он опять несвободен. Но это уже не та несвобода, масштабы которой зависели от прихотей князя-архиепископа, здесь уже явно просматривался Божий Промысел. Открытый космос манил и звал странным жестяным звуком – не то шелестящим, не то позвякивающим, словно связка ключей в руках св. Петра. Даже в ночной тишине касался его кожи сухой металлический шелест и внушал: твой путь – путь «послушника», «путь и́скуса» – иди, иди, не оглядывайся, не зная привязанностей, сожалений, сомнений, страха… а звуки оркестра судорогой стягивали глотку – глубокими, пудовыми, спазматическими вздохами…
У деревенской церкви две могучих ветвистых березы ярко желтеют на синем холодном небе, издавая мелкими золотистыми листочками всё тот же сухой жестяный звук – «день был субботний Иоанн Богослов».12 От церкви – среди покоя и прохлады – тянутся мерные, глухие удары колокола…
Католический храм полон народа, сидят и стоят вплотную друг к другу – ни разговоров, ни даже шепота – мертвая тишина.
Марина прижалась в углу у входа. Ей странен и звук колокола, и весь облик храма без привычного для православной церкви иконостаса. Стрельчатые окна, дух нагретого солнцем дерева, что-то светское в живописи, в культовых деревянных фигурах, – и каменное молчание прихожан, ни одной согбенной спины, ни одного опущенного лица. «Kyrie eleison», – запел на хорах высокий детский голос и завздыхал по-стариковски, отдуваясь и поспешая за голосом, приземистый орган, сверкая вставной челюстью.
И вдруг, как просыпавшийся на каменный пол бисер, дробный девичий хохоток запрыгал нежными горловыми трелями. Все всколыхнулись, словно оживший «некрополь», и обернулись. Юная прихожанка, привычным движением обмакнув в чашу у входа два пальца, перекрестилась, присев на одно колено. За ней проделал то же самое и так же пóходя её кавалер, ушастый, вихрастый, с мотоциклетным шлемом в руке. Они с благочестивым вниманием дослушали «Agnus Dei», затаившись как две рыбки в коралловых рифах, и вдруг, так же стремительно перекрестившись, окунув пальцы в чашу, вышли из церкви. Рёв мотоцикла, веселые ребячьи голоса; как теплый порыв ветра пахнул в открытые двери храма и растаял в его прохладе и где-то там, в пустынных деревенских улочках…
Проселочная дорога, овражек, выжженный солнцем пригорок. Деловито и целеустремленно, как рыщут бездомные собаки в поисках пищи, летают вороны, едва не задев вас крылом, почти припадая к земле, будто что-то вынюхивая… «Чужое и бесы помáют», – слышится Марине и она убыстряет шаг, торопится, сутулясь, не разбирая дороги, не чувствуя голода, не зная отдыха, одна-одинешенька, ведомая голосом, напутствующим её: «Восстань, возьми одр твой и ходи»… Где-то здесь, сейчас, такой же одинокий на всем белом свете, изъязвив колени о зачерствелую как камень землю, молится Он: «Авва Отче! Всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня». Спят ученики. Никто не спасется опытом другого, каждый стремится на собственную Голгофу. И вечно опаздывает в суете сует как на собственные похороны: вбежал, запыхавшись, расталкивая зевак, а покойника уже и след простыл, ищи-свищи, где теперь свидитесь, в каком из этих миров?.. Совершив свой печальный круг, ушло за горизонт солнце, замыв за собой следы прозеленью с рыжевато-лиловыми разводами. Солнца уже нет, но оно еще долго здесь, удерживая за собой западную окраину неба, как бы поделенного на две стихии. В зените же холодной синевы – раскаленный добела, острый как бритва, серп луны…
К ночи собрался дождь. Зашуршал, завозился в темных лопухах на задворках усадеб, просы́пался сквозь поредевшие кроны яблонь и затерялся в густой зелени смородины, колючего малинника. Если, слушая дождь, закрыть глаза, можно легко представить, что там, за забором, потрескивает горячим плескотом огонь, суетливо и жадно обгладывая уже задымившуюся головешку, подлаживая её то так, то эдак под особо крепкий и острый зуб.
Почтовая карета с зашторенными окнами и одиноким фонарем на козлах, кренясь и брызжа грязью, проследовала через деревню. Марина прижалась к забору, пропуская карету, и оглянулась, приняв её в темноте по близорукости за катафалк. «Сальери» – отозвалось в сердце, ничего не прояснив, и тут же забылось вместе с исчезнувшей в пелене дождя каретой.
Когда вышла за околицу, кто-то шепнул ей на ухо: «Оглянись». Не оглянулась, и спаслась. Шла, не останавливаясь, не присаживаясь, не глядя по сторонам. Сначала проселочной дорогой, заросшей заячьей капустой вдоль обочины; потом полем – узким коридором во ржи; лесной тропкой, пьяно колесившей среди кустов, всё кренившейся и забиравшей вправо, пока не вынесло вдруг на опушку… Если глянуть окрест, то за балкой в низине угадывалась по очерку крыш деревня… Елабуга – будто праздное дышло уперлось ей в спину между лопаток. Впрягись и вези свой воз, – не хочу! Не сейчас! Она торопится, почти бежит – и ушла, и много плутала. Темной дорогой из Болшево на станцию, где звук собственных шагов стучал в висках напряженной ниточкой пульса, пока не впивался в глаза фонарь над дощатой платформой. И зимней дорогой, возвращаясь к себе в Голицыно, мимо заснеженного поля с узловатым безлистым деревом, трясясь от холода, в свой откупленный на время угол-террасу («слишком много стекла, черноты и тоски»), где её держали на виду, как золотую рыбку в аквариуме. Безоглядно уходила она закольцованной дорогой Прага-Вышера-Прага, мотаясь с поезда на поезд, твердо усвоив для себя очевидное: кто боится одиночества, тот просто не знает, что в чьем-то присутствии оно еще невыносимей. И, наконец, Таруса – её нескончаемый путь, где она давным-давно себя похоронила, оплакала, попричитала, как водится, и камень надгробный заказала, и эпитафию сочинила, и с легкой душой ушла…
Плачут, стенают слепые и глухие, уткнувшись лбом в могильную плиту, а она уходит дальше… «дверь открыта и дом мой пуст»… Мысли витают где-то не здесь (может быть, в России – в Борисоглебском; может быть, в Германии – на Унтер-ден-Линден). Русскоязычная немка или германофилка из России. По духу «крестоносец», по делам сестра милосердия, – прошла мимо… Оглянись же! Нет, идет не оглядываясь, теряясь в толпе. Простая серая юбка, стоптанная обувь, ворот блузки расстегнут, на шее ниточка из мелкой бирюзы. Голова опущена, короткая стрижка, сама худая, загорелая, ключицы выпирают под кожей, как ребра зонта, а икры ног полные, отекшие… Уходит, не поднимая головы, вдруг кто-нибудь вломится в её жизнь, разодрав нахальной рожей полог белесого неба: «А подать сюда» – скажет… Почему-то ей виделась именно такая в полнеба хамская рожа. И смотрит сверху эта рожа. Спрячешься в кусты – она осторожно вытянет из кустов двумя пальцами, как насекомое, и опять на дорожку кинет. Залезешь в овраг под сваленное дерево – и оттуда те же два пальца извлекут и на тропинку; не убежать, не спрятаться – всюду достанут два нависших сверху, брезгливо берущих, как котят за шкирку, два холеных княжеских пальца…
Аля спит, не дождавшись мать. Закуталась в старое одеяло, свернувшись калачиком на широкой деревенской кровати, такой же скрипучей и рассохшейся, как встреченная у околицы карета. Темно так, что не сразу определишь, где же в комнате окно. Там на подоконнике керосиновая лампа. Чиркнула спичка – раз, другой, дымит, краснеет серная головка – огня нет. Зажглась, наконец. От света лампы стало спокойно. Я вижу, как Марина, переобувшись, несёт лампу к столу; локтем сдвигает на край столешницы посуду и садится за работу. Непроизвольно тянется рука, машинально жуется хлеб, потрескивает жарким костром за окнами дождь… Уже поздно, но она не ложится спать. Запоздалый грохот мчащегося в депо трамвая отвлекает меня от рукописи, и я смотрю в окно из моей московской квартиры. Марина прислушивается в Иловищах, и её округлый почерк хорошистки выводит в тетради: «Нас родина не позовет! Езжай, мой сын, домой – вперед – в свой край, в свой век, в свой час…» Что пишет? «Поэму конца», «Поэму горы»… «Соль сжигает щеки, Перед глазами креп. – Адрес? Его прочтете В справочнике судеб»…
Ранним сентябрьским утром от дома на Ганнибалплатц отъезжает карета, увозя Вольфганга и Анну Марию в длительное путешествие. На этот раз они уехали без свидетелей. Толстяк Лоренц Хагенауэр уже не мог стоять, опечалясь, на пороге своего дома, судорожно комкая в пухлой ладони платок; не было и Доминика, ушедшего в монастырь; не было даже отца и Наннерль. Леопольд, потрясенный их отъездом, так и не сошел вниз проводить их, а Наннерль, опустив шторы у себя в комнате, весь день прорыдала в постели. «Пимперль печально устроилась рядом с нею».
Леопольд сомнамбулой бродил по опустевшей квартире, время от времени предлагая дочке чай, а ближе к вечеру – обед, приготовленный Трезль. « [С] уходом Буллингерa, – написал он жене на следующий день, – я лег в кровать и провел время в молитвах и чтении… Собака зашла взглянуть на меня, я пробудился, и она дала мне понять, что я должен выйти с нею на прогулку. Я поднялся, взял мою шубу, и, найдя Наннерль крепко спящей, вышел, а вернувшись с прогулки, разбудил дочь, приготовив нам еду». Когда стемнело, заглянул Шахтнер – проведать, помузицировать. Тут же сели за дуэты – не пошло. Глаза у Леопольда слезились, ноты расплывались, а мысли мчались следом за каретой, увозившей жену и сына. Как сквозь стену доносился до него голос Шахтнерa, который, обращаясь к Наннерль, вспоминал…
«Что ты пишешь, малыш?» – спросил его тогда герр Моцарт, застав Вольфганга с пером в руке. Тот ответил, макая в чернильницу перо: «Концерт для клавира». Герр Моцарт протянул руку, желая взять листок и посмотреть, но Вольферль уперся: «Я еще не кончил». Боже мой, что это была за мазня. В своем детском неведении он макал перо до самого дна чернильницы и, всякий раз, касаясь им бумаги, ставил кляксу; потом преспокойно вытирал её ладошкой и писал дальше. Мы, пряча улыбки, потешались, разглядывая эту мазню, и вдруг герр Моцарт замер чем-то пораженный. Я никогда больше не видел у него слез восхищения и радости. «Взгляните, – сказал он мне, – господин Шахтнер, как здесь всё правильно и стройно, только вряд ли это исполнимо. Ведь это написано так необычайно трудно, что ни одному человеку не сыграть». На что Вольфганг заметил: «На то он и концерт. Надо так долго упражняться, пока не получится». И он заиграл, и сумел показать ровно столько, сколько нужно было, чтобы мы поняли его намерения… Он был уверен, наш мальчик, что играть концерт и творить чудеса – это одно и то же… Господи, не оставь его в пути, не лиши своего покровительства и милостей».
Пусто стало, когда ушел Шахтнер – тихо, темно. Изредка Трезль звякала на кухне грязной посудой, и скулила под дверью Пимперль, просясь на прогулку. Так поздно её обычно выводил гулять Вольфганг. Вот Трезль вымоет посуду, оденется и выведет её… Пусть идет, только пусть не скулит так тоскливо Пимперль… и не бегает на каждый стук к входной двери встречать Вольфганга, а потом искать его по комнатам, будто он дух святой – невидимо и бесшумно проникший в дом.
Стукнула дверь, – перемыв посуду, Трезль ушла с собакой. Квартира погрузилась в илистый сумрак. От каменного пола на кухне повеяло холодом. Догоравшие угли в печи тускнели, затягиваясь пепельной пленкой, как веко у птиц. Но сама плита, если к ней прислониться, была еще теплой, даже горячей. Смыкались глаза – не от дремы, от гложущей с утра боли – надоедливой, тянущей, не отпускавшей ни на мгновенье.
Пока шли сборы, мозг был занят множеством обычных при отъезде мелких забот: как упаковать и уложить вещи, и ничего не забыть, предусмотрев всё необходимое в длительном путешествии. Денежные расчеты, рекомендательные письма, бытовые советы занимали его до последней минуты… И вдруг, в момент прощания, нервный срыв, ощущение неизбежной катастрофы, предчувствие вечной разлуки, отчаяние, паника, что назад уже не повернуть. «В то время, когда я укладывал ваш багаж, я был душевно нездоров, причиной тому были страх и боль, я возился внизу около экипажа, у меня не было времени поговорить с вами до вашего отъезда. Я видел её тогда в последний раз!»
И всё же. Еще не всё было потеряно, еще в его силах было удержать их, отложить отъезд. Ему стоило только сказать им — нет. Не дать денег, сказаться смертельно больным – и они не уедут. Сын навсегда останется с ними в Зальцбурге, под его опекой, под присмотром семьи; и будет сохранен, спасен, доживет до глубокой старости, не зная нужды, соблазнов, богемы, унижений, разочарований, предательств, и тем самым продлит им жизнь – ему и Анне Марии.
Леопольд правит копии новой партитуры Вольфганга «Sancta Maria, mater Dei», написанной им в канун рождества Богородицы 9-го сентября. Прощаясь с домом, сын в последний раз снова обратился с молитвой к деве Марии. Пламя свечи заморгало и огненно замерло, как раскаленное стальное перо – не шелохнется, не чадит. Взгляд невольно приковывается к нему, оторвавшись от звучащей ряби нотного стана, и пристально рассматривает это «чудо», пока мимолетный ток воздуха не качнул пламя. Оно дрогнуло, пыхнуло, выпустило тонкую струйку дыма и затрещало, забилось… и теперь уже будет плясать, чадить, вздрагивать, тускнеть и разгораться весь вечер.
Wolferl… es ist nicht vorhánden!13
Поздно. Леопольд подходит к окну, прислушивается – нет его. Он распознал бы его шаги среди топота толпы, различил бы его юркую худенькую фигуру в кромешной тьме… «Бедные глаза, мои глаза», – причитает Леопольд, вглядываясь в темень за окном.
Вольфганга нет. Он не придет. Леопольд так и не дождется его этим вечером. Не мелькнет перед домом его плащ, не хлопнет дверь в парадном, не будет трезвонить в квартире дверной колокольчик, не будет смеха, шуток, радостных воплей Наннерль, встревоженного ворчания Анны Марии. Сын мокрый от дождя, жалкий, с печальной гримасой на лице трясется и скулит, виртуозно подражая Пимперль, которая тут же, у его ног, радостно отбивает хвостом приветственную дробь… Не будет этого больше. Никогда. Nie!
Сердце останавливается, удушье сковывает грудь. «Польди», – шепчет ему на ухо голос Анны Марии. Он чувствует, как она обхватывает его сзади за плечи, прижимается к нему всем телом. «Польди», – её губы нежно касаются шеи, напрягшейся от щекотки. Она смеется совсем по-девичьи, краснея и пряча глаза, и он слышит её невольно вырвавшееся признание: «Хорошо нам было с тобой, Польди. Разве нет?»
За ужином рюмка красного вина согревает, осветляет голову. Оцепенение проходит, слёзы хоть и текут еще, но горячие и горючие, а не холодные и безутешные. Стараясь не смотреть друг на друга, отец с дочкой играют в «пикет». Игра идет без азарта, не спеша, расчетливо, без обычной радости при выигрыше и огорчений в случае проигрыша. Игра занимает мысли, убивает время, дает чувствам передышку. «Бедные мои глаза», – Леопольд сдавливает веки пальцами. «Как ты думаешь, – спрашивает Наннерль, – они уже въехали в Вассербург?»
ЗЛОСЧАСТНЫЙ ЛЕОПОЛЬД
И опять перед глазами минута, когда карета, отъехав от дома, завернула за угол и покатила вниз к мосту через речку Зальцах. Вывалилось из облаков, как сырой желток из яйца, низкое солнце, засвечивая глаза и отбрасывая на землю расплывшимся йодистым пятном тихий свет… В паутине у́тра заискрился угол пыльного надтреснутого стекла.
Сначала пришло ощущение собственной ненужности, будто озарило темень души ровным холодным светом старости, и вместе с ним сознание: от того, что надвигалось, не отмолиться, не отвертеться, не спрятаться, не сбежать, не проснуться. Потом обнажились корни этого чувства: почти физическое ощущение пустоты, образовавшейся там, где многие годы царило обожание. И это открытие – как приговор, как черный жирный штемпель бюро ритуальных услуг. Всё твое отбирают, увязывают в узел и уносят, оставляя одного в пустом приемном покое, сумрачном и холодном, в чужом – не по росту – застиранном и ветхом больничном белье.
Из-за серебряной полоскательницы выбежал крупный рыжий таракан и замер, ощутив над собою вселенское лицо Леопольда, окаменевшей маской придвинувшееся к нему, как если бы придвинулась вдруг к земле, вечно щерящаяся в небесах луна. Таракан стряхнул оторопь, сделал Леопольду усами «козу» и засеменил дальше от одной сладкой лужицы к другой, от крупинки сахара к капле пролитого соуса. Таракан суетливо двигался у самой кромки плиты, резко меняя направление и, словно щупами, шевелил усами; было отчетливо видно, как загоралась искрой его рыжая желудевая спинка. Леопольд сдернул полотенце и хлестнул по плите. Таракан исчез. Но, приглядевшись, Леопольд тут же обнаружил его на плитах пола: припадая на лапки, таракан бочком уволакивал под защиту плиты полураздавленное тельце. Неужели инстинкт не говорил ему: остановись – попался, придавили, пустили кишки, так уж пусть додавят до конца. Нет, бежит, спасается. И нога уже потянулась хрустнуть его тушку, но в последний момент Леопольд дал ему уползти – зачем? Теперь он забьется где-нибудь под печкой в самом темном и пыльном углу и, шевеля усами, будет обследовать искалеченное брюшко: и если бы мог, зализывал бы ранки, как кошка или собака; или перетягивал бы жгутом, как это делает человек, чтобы остановить кровь. У таракана нет крови, нет жгута и заживляющей слюны – полная беспомощность, лег в щель и жди смерти. Боль нестерпимая, – временами затухает, и это приносит несказанное облегчение, почти блаженство. Нет у него больше с этим миром ни счетов, ни расчетов, никому, ничего и нисколько он не должен – рассчитался со всеми сполна. Когда гибнешь, только и живешь.
Мысли о смерти впервые поразили Леопольда. Казалось, еще только вчера, материнское обожание маленького Польди, безудержное и назойливое, сменилось ревнивым вниманием друзей, приходивших в восторг от его грубоватых шуток, остроумия, простонародной веселости, чем сверх меры были напичканы и его симфонии. Анна Мария затмила друзей своим трепетным благоговением, когда и в рот смотрит, и хороводы водит, и пылинки сдувает. Вершиной для него стало обожание сына – ничем не заменимое, необходимое как воздух. «Это как делается, папá?» – спрашивал малыш, чтобы записать свои первые детские сочинения. И приходил в восторг, когда Леопольд молниеносно, безо всяких усилий, твердой рукой вписывал в его тетрадь нужные по высоте и длительности ноты, бекары, бемоли, паузы, мелизмы. Решал «труднейшие» задачи гармонии, объясняя азы загадочного, еще непостижимого для Вольфганга контрапункта. Музыкант, композитор, мастер, а не просто отец. «За Богом сразу идет Папá», – твердил в восхищении малыш.
И вдруг чувство неловкости. Отец его не понимает, не успевает на слух следить за его мыслью, требует ноты и, слушая, как со шпаргалкой в руках, гневно чёркает в партитуре, раздражаясь непривычной гармонией, режущими слух диссонансами и цепенея от душевной боли сына, буквально захлестнувшей страницы симфонии g-moll (К.183). Эта боль вторгалась в сознание «мамаевой ордой» и в неистовстве рубила всё, что приподнимало от земли голову, что ей пыталось противостоять, – мгновение скорбного созерцания (почти детская жалоба), – и с новой силой, неудержимо, под самый корень, в азарте слепого наваждения, попирая, подминая помраченное сознание копытами… Ошеломленный отец не верил глазам – шутка, розыгрыш, мистификация? Садился за инструмент, что-то невнятно бормотал, напевал, проигрывал, предлагая правку на каждой странице; исключал крамольное, оскорбляющее галантный вкус, нарушающее пристойность салонной музыки. Правил, как будто можно править душевную рану. «То, что тебе не делает чести, пусть лучше останется неизвестным… В более зрелые годы, когда благоразумие возрастет, ты будешь рад, что её [симфонии соль минор] ни у кого нет, даже, если сейчас, когда ты пишешь, ты ею доволен». Вольфганг усердно кивал, соглашался и ничего не менял. У него пропала охота показывать отцу то, что им было написано не по заказу.
Леопольд не заметил этого или сделал вид, что не заметил. Втайне от всех он мучился: неужто вот она – старость. Похвалит сына, тот довольно усмехнется, поругает – пропустит мимо ушей. И Анна Мария ворчит, уже не замечая, что ворчит в его присутствии. И на службе его давно перестали воспринимать как соперника, перестали говорить при нем шепотом.
Что совсем мне непонятно, как не сумел Леопольд сделать карьеру при дворе, хотя имел для этого достаточно оснований: и солидный профессиональный уровень, и талант дипломата, не пил, был окружен друзьями-аристократами, обучая музыке их детей… Леопольд, безусловно, тонкий, глубокий, умный человек, наделенный необычайным музыкальным чутьем. Он, как музыкант, с поразительной быстротой достиг своего потолка и… остановился. Его сочинения отличали изобретательность, вкус, мелодичность, сочный юмор; они говорили о несомненном таланте, но оставались безличными – по плечу любому средней руки композитору. В этом суть: его личность не раскрылась в его сочинениях, превосходя их собственной глубиной, оригинальностью, выразительностью суждений… Это он понял не сразу – и мучился. Это казалось несправедливым. Не было ни одного композитора из его современников, произведения которых он не просмотрел бы в партитуре, если не удавалось услышать в концерте или исполнить самому. Он знал, чем они дышат, он овладел их секретами. К тому же он старательно изучал вкусы публики и умело, с приятностью для слуха им потрафлял… Но большой музыкант только начинает с мастерского подражания авторитетам и угождению публике, потом – переступает через тех и других. Но для Леопольда – тут его потолок. И если для гения он, скажем ему не в обиду, был мелковат и несамостоятелен, то для карьеры – слишком самолюбив и самобытен. Опять же, ну да – немец, а в моде итальянцы, да и характерец… Можно обольстить случайного встречного в охотку или преследуя конкретный интерес – разово, но не тех, с кем многие годы состоишь в одной придворной челяди.
Его истинный талант (и это стало настоящим везением для Вольфганга) проявил себя в преподавании музыки, увенчавшись двумя вершинами: В.А.Моцартом и «Школой скрипичной игры», изданной впервые в 1756 году (год рождения сына) И. Я. Лоттером в Аугсбурге и еще долгие годы после смерти Леопольда остававшейся востребованной в Европе, в том числе и в России.
Кто бы он был без него… (Написав эту безличную фразу, я вдруг понял, что она в такой же степени может относиться как к сыну, так и к отцу.) С сыном всё ясно, но представить себе жизнь Леопольда без Вольфганга – нельзя. Леопольд необычайно амбициозен. Провинциал, приехал в Зальцбург учиться юриспруденции; увлекся музыкой и очень быстро стал делать успехи, причем, неожиданно для самого себя. Он вдруг возомнил себя гением, жертвой обстоятельств, обделенным в детстве музыкальным образованием. И решил, что он сумеет догнать, у него получится. Он не будет ни спать, ни есть, но восполнит то, что недополучил; восполнит – и превзойдет своих сверстников, потом итальянцев, а потом и нынешних модных сочинителей. Подобные признания часто срывались у него с языка: «Ты знаешь, честь и слава – всё для меня… Это всегда было и останется моей целью». Ему льстило внимание «сильных мира». Он всегда гордился своими связями в высшем свете. Но кто бы из них стал водить знакомство с каким-то вице-капельмейстером захолустного оркестра из Зальцбурга, приглашать на обеды, осыпать подарками, вести переписку, если бы не… Этим нектаром, на который слетались все пчелки, шмели, мотыльки, осы, стрекозы, мухи и прочие, был маленький Вольфганг. Без него – никаких поездок по Европе, никаких приемов при европейских дворах Австрии, Франции, Англии, Италии, Пруссии… Да, отец много вложил в него, но и какова отдача? Жизнь провинциального музыканта обрела какой-то высший смысл. Сын стал его глазами, ушами, нервами, через которые он воспринимал мир. Отнять его, значит действительно отнять у отца жизнь.



