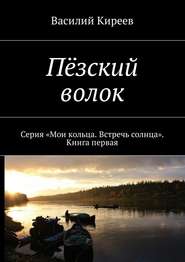
Полная версия:
Пёзский волок. Серия «Мои кольца. Встречь солнца». Книга первая
Ну чем не Кимжа или Едома? Такой вот взвоз забавный на пове́ть. Обратите внимание на правый столб.

Взвоз на поветь.
Ну и конек – охлупень, как же без него?

Охлупень.
Среди травы – тележные колеса. Возвращаемся другой стороной… Но не брошено, нет. На самом берегу, над Пёзой, – обетный крест (оветный, говорят здесь). Идём по берегу обратно. Сразу за крестом – банька по-чёрному, дверь в которую не заперта, как и в дома. Заглянем? Каменка, полок… Всё на месте.
Над селом, на высоком угоре, еще один обетный крест, к которому ведёт отчетливая тропа.

Обетный крест
А от креста открывается чудесный вид на всю реку.

Вид на Пёзу от креста.
Возвращаемся назад, мимо дома Юрия Борисовича. На ручку, на ручку внимание! А она поворачивается – хозяин-то вернулся!

Дверная ручка
Президент Лобана Юрий Борисович Яковлев. В какую-то забавную программу попала эта деревня – тут есть спутниковый таксофон, питающийся энергией от солнечной батареи (ха-ха) и ветряка (вот это да!). Синяя будка с надписью «Архоблэнерго» – дизельная электростанция, снабжающая энергией Лобан в отсутствие солнца или ветра.

Сердце Лобана
А начальник над всем этим – Юрий. Директор всех трёх электростанций и спутниковой почты в одном лице, поскольку других лиц нет. Потому и Президент. За то, что Юрий обеспечивает село и всех его жителей электричеством и связью, государство платит ему зарплату, да. Ну и что, что житель тут один… Впрочем, я не ёрничаю. Я всерьёз считаю, что так оно и должно быть – Юрий один-то условно. А так – вся деревня жилая. Но Президент-то Юрий по необходимости, а по призванию – охотник-промысловик. И в деле изготовления чучел он – вторая во всём Мезенском районе величина. Первой величиной был его отец…
С Федотычем они друзья. Давно, Яковлев – старший ещё живой был, – случился с тем инсульт, и потерял он дар речи. Но не совсем – исчезли из его лексикона все слова, кроме матерных. Так и встречал он гостей, костеря отборным матом, с милой улыбкой на лице, приглашая недоумевающих приезжих жестами в дом. Нетривиальная ситуация – Федотыч даже поэму по этому случаю написал. Мы спускаемся с крутого угора к реке, и пока Димон с Серёгой переставляют мотор на резинке, устанавливая туда маленькую Ямаху, Федотыч нам её читает. Только не окончил он пока «Родимую сторонку».
«Безъязыко, только гукая,Жестом, взглядом говоря,Он привел нас тропкой узкоюУж почти к своим дверям…»Ещё рядом с Лобаном есть целебный родник – очень почитаемый источник, как считается, помогающий от болезней глаз. Да… три часа уже.
И в 15—00 мы отходим от этого удивительного Лобана. Серёга с Димоном теперь «рассекают» под Ямахой на резинке.

«Резинка»
Крутые высокие обрывы – щельи, появившиеся впервые перед Лобаном, после него стали выше и чаще, ветер стих, превратив поверхность Пёзы в зеркальную гладь, на которой стало особенно заметно, что колеса прицепа, частично погруженные в воду, сильно её рю́тят, заметно мешая движению.

Зеркало Пёзы.
Договариваемся, что на следующей остановке мы их попробуем убрать. Около 18—00 подходим к очередной избе со странным названием Пёлдус. Здесь, пока идёт заправка бензином, готовим чай и смотрим на избу. Очень чистенько, уютно и гостеприимно.

Изба Пёлдус

Уютно и гостеприимно.
Вообще-то, эта изба связистов, пространство вокруг которой заросло потрясающе душистой малиной.
Ещё через час догоняем идущую зигзагами по реке лодку. Да уж. Ну да, из Москвы ребята. Очень уж на генерала похож старший, а младший, хоть и изрядно нетрезв, но сути происходящего не теряет. На корме – сафоновский житель, но лодка идёт зигзагами, поскольку стакан тоже в руке. Да, это по-генеральски – не обидеть рулевого. В общем, ребята открыли для себя верховья Пёзы и Рочуги…
– А про Волок-то знаете?
– Да. Даже собираемся туда. Но зимой, на снегоходах, летом-то не пройти. А вы?
– А мы туда.
– Сдурели? Потоните же!
– Да нет, мы трезвые пойдем. И ещё всем потом расскажем.
– А вот это зря, зря! – Напускает на себя строгость «генерал», – не надо рассказывать. – Точно генерал. Занял свою территорию и не отдаст теперь ни пяди. Да и Бог с ним. Разговор происходит у избушки Чага, запланированной нами как ночлег. Да ладно, идём дальше.
Ещё через минут сорок – местечко Вазган – посёлок буровиков – геологов, искавших тут на излёте советской власти нефть. Не нашли, побросали и ушли. Фото нет, ибо уже сутемёнки.
Примерно в полдевятого в уже серьёзных сумерках (помните – мусоко! Только когда совсем темно, не просто мусоко, а пора́то му́соко!) разглядываем вышедшие на берег огромные, метров за 30 высотой, лиственницы, среди которых много сухих, высохших на корню деревьев, зовущихся здесь хо́нга. К избе Вирю́га, на месте покинутой ещё в 70-х годах деревни, подходим в 20—30, а разгружаемся уже при свете фонарей.
28 августа. Изба Вирюга – всё, что осталось от бывшей на этом месте деревни.

Изба Вирюга.
Изнутри изба производит такое же впечатление, как и снаружи – всё какое-то сильно обветшавшее. Немного подгнившая лестница ведёт на поветь, где обнаруживаются остатки пахучего сена, на которых мы с Олежкой и Серёгой решили вчера переночевать, оставив другую часть команды в избе. Пожалуй, отношение к ночевкам в избах – чуть ли не единственное разногласие в нашей команде. Но это разногласие носит, скорее, географическую подоснову – замечали, что в северных домах в холода всегда сильно натоплено? И баньку северяне любят погорячей… Я думаю, это оттого, что, зная цену настоящему морозу, они компенсируют свою теплоотдачу на холоде, оказавшись в тепле. Или наоборот, в преддверии холодов, северяне «накапливают» в организме тепло про запас. Да. При любой маломальской возможности северяна-мещана, к коим относятся наши проводники, будут стремиться переночевать в избе, а попав в оную, непременно растопить в ней печь. И даже когда вы, вытирая пот со лба, настоите, чтоб приоткрыли дверь, Олег, улучив момент ослабления вашей бдительности, бросит охапку дров в топку. Мы же, как истинные походники, предпочитаем теплу свежий воздух и душистое сено. Особенно после покупки спальника «Арктик, минус 14». Изба Вирюга предоставила удобства обеим частям экипажа, выспались все отменно, особенно Серёга, обнаруживший в процессе сна, что спит на оленьей шкуре.
Вирюга никогда не была большой деревней – «пик» её расцвета пришелся на 1958-й, когда тут было 6 дворов. В 71-м осталось три, и в конце 70-х – одна и, похоже, именно эта, «жалкая изба»…
«…мы прибыли к местечку Вируге… обитаемому одним семейством; да и всё-то оно состоит из одной жалкой лачужки с пристроенной к ней баней. Какой-то старик-крестьянин живет тут с женою своею, ведет здесь пустынническую жизнь, занимаясь разведением ячменя и стрелянием рябчиков»*
Никуда от Судьбы не уйдешь. А Федотыч, похоже, знает того старика – так и владеет он этой избой, только бывает здесь наездами из Бычья, потому и ячмень больше не разводит. Зато место ячменя заняла вкуснейшая душистая малина вперемешку с шиповником. А рябчиков стрелять приезжает, да.
Выспавшиеся и довольные, в 8—15 мы уже на реке. Безветренно и очень тепло, что даже проснулась мошкара. За Вирюгой лес вплотную подошёл к воде. Берега здесь высокие, лес очень плотный, лиственницы с обеих сторон. Но такой лес годится только на дрова, сетуют проводники. Потому и зовётся он тут у́доровье. В районе выхода зимника, срезающего петлю у Вирюги, стая гусей села на воду. Взлетела и развернулась. Красота.

Пёза у Вирюги.
Кстати, о петле (носе, или кляпе). Это тут срезал 6-километровую излучину реки Шренк, пройдя напрямую через ягельные беломошники-боры пешком. Мы же пока ещё наслаждаемся движением по воде. На реке периодически появляются другие лодки – вот, сафоновские рыбаки везут полную лодку рыбы с верховий вниз, на продажу. Ещё издали примечаем этот высокий угор – щелью, куда, по идее, должен был выйти Шренк пешком. Но никто не рассказал ему эту историю…
Около 10 утра подходим и мы к высокому холму, на котором отчетливо виден крест. Зажёгины Холмы.

Зажёгины Холмы
Пришвартовавшись, начинаем подниматься на 30-ти метровую верхушку, что само по себе оказывается непростой задачей – с холмов стекают многочисленные ручейки, питаемые верхними болотами, превращающие берег, кажущийся песчаным, в топкую засасывающую няшу.
За няшей – полоса кустарника с переплетающимися ветвями, за которым – подъём на крутой холм по осыпающемуся отвесу. Вылезаем наверх и с трудом переводим дыхание. Недаром злодей Зажёга облюбовал себе это место.

Пёза с Зажёгиных Холмов.

Крест на Зажёгиных Холмах.
Злодей – Зажёга. Зажёгины Холмы. Крест. Нестыковка?
– Конечно, нестыковка. Холмы всегда тут звались Зажёгиными, по имени разбойника. По преданию, тут и нагнал его лешуконский крестьянин Пашко, всю ватагу перебил, а самого младшего – отпустил, наказав рассказать всему миру, что произошло. Потому мы и знаем и о Зажёге, и о Пашко, – и Федотыч рассказывает, стоя у креста на высоком холме, эту историю…
История эта известна теперь по произведению «Житие и страдание святого преподобномученика Иова Ущельского, мезенского чудотворца вкупе со сказкою о разбойнике Зажёге», но Федотыч говорит, что слышал её, рассказанную стариками, ещё в детстве.
События происходили в первой трети 17 века, в оправляющейся после Смуты России. Наверное, поэтому основными действующими лицами этой истории являются поляки. Зажёга – разбойник, польский атаман, не ушедший обратно в Речь Посполитую, а организовавший ватагу, грабившую, разорявшую и сжигавшую деревни. Собственно, потому и Зажёга. А Иов Ущельский – Иов Патрикеев Мазовский – тоже оставшийся на Руси поляк, ставший иноком Соловецкого монастыря. И пока Зажёга уходил всё дальше на Север, от преследователей и в поисках наживы, Иов, «неведомо почему оттуда (из Соловецкого монастыря – КВ) изыде»12, основал, тем временем, скит на Мезени, в семи километрах от Усть-Вашки, нынешнего Лешуконского, в местечке Ущелье (на первый слог!)
Зажёгу, говорят, многократно ловили, но он всегда ускользал. В Колмогорах посадили его в темницу, но кто-то сердобольный дал ему уголёк. Нарисовал Зажёга угольком на стене темницы кораблик, сел в него и уплыл. Так и пришёл на Мезень. А к Иову в Ущелье тоже стала стекаться братия – для молитв и дел праведных, что вскоре скит стал монастырьком.
В 1625 (по другим данным 1628) году поляки повстречались. Был Праздник Преображения Господня, Иов был в молитвах, а братия – на покосе, когда в монастырёк пришла ватага, ведомая местным крестьянином, завистником и злохотцем Анфимом, указавшем на Иова, как обладателя золота, Зажёге. Кто-то подслушал начало диалога двух поляков:
«– Пан будет поляк? – усмехнулся атаман.
– Я Иов, чернец.
– Откуда у бедного мниха сия вещица? – показал атаман ладонку.
– Надо ли знать тебе? Хорошо, я скажу. Это наша родовая реликвия, тут написано по-латыни «Да хранит тебя Бог» и наше имя.
– Тут написано – Мозовский.
– Таково было моё мирское имя.
– Так ты шляхтич? – и, вынув саблю, он обрезал путы на ногах и руках пленника. – Скажи, как ты стал монахом в этой варварской стране?
– А как ты, пан, стал разбойником?
– Мне не было иного выхода.
– Мне тоже, пан атаман.»13
В общем, пытали Иова нещадно. А когда тот отдал Богу душу, скинули с высокой щельи вниз. А за ним и Анфима, чтоб неповадно было.
Анфим в этой истории сыграл ещё одну роль – до Зажёги он пытался подговорить против Иова местного крестьянина, богатыря Пашко из деревни Юрома (на Ю!) Но Пашко, придя в Ущелье и увидев, в каких трудах Иов сам среди дремучего леса строит храм, взял топор и стал ему помогать. А потом, узнав, что Иова не стало, бросился за Зажёгой в погоню. Зажёга, говорят, хотел идти на Окладникову Слободу (будущий город Мезень), там грабить, но, то ли испугавшись слободских стрельцов, то ли чувствуя погоню, свернул на Пёзу. Тут, у Зажёгиных Холмов, Пашко его и настиг. Говорят, ватага расположилась на привал, стала кашу есть, когда над Пёзой прогремел страшный клич «Иоооов!!!», и полетели стрелы.
– Конечно, нестыковка, – продолжает Федотыч, – каждый раз, проезжая на лодке эти Зажёгины холмы, под которыми течёт ещё Зажёгин ручей, я думал: «Как же так? Прозвище убийцы и нелюдя память человеческая увековечила, а имя Пашко нигде не запечатлелось. Где справедливость?» И появилась мысль поставить там памятник. А какой у нас, русских, может быть памятник? Православный крест.
Федотыч берёт в руки топор:
– Потемнел за год. В прошлом году мы с батюшкой (отец Алексей – КВ) поставили, белый был. Нать чуть подновить…
Спускаемся медленно, склоны, словно ковром, покрыты ягодой. Тут и брусника, и черника. А вот совсем чёрная – водяника. Проводники называют её сиха и считают лучшим средством для утоления жажды. Действительно, нейтральная на вкус, очень водянистая, и пить после горсти не хочется. Но аккуратнее с ней, особенно в лодке – мочегонный эффект присутствует.
Спускаемся к лодкам. Димон снова ставит на резинку «Ветерок» Вот так и экспериментируем – под «Ямахой» – идёт, но медленно. Под «Ветерком» – топливо жрёт и заводится плохо.

Эксперименты с моторами
10—40 отходим от Зажёгиных Холмов. Сразу за холмами – участок бурелома. Тут похозяйничал шквал. А дальше – огромный камень – Ботвин – посреди реки. К нему нужно подойти, встать на него и, оставив кого-нибудь на Ботвине, идти дальше.

Ботвин
Кстати, на фотографии Ботвиня видно, что Димон таки поднял колеса прицепа из воды. Когда только успел? Но больше они воду не рютят.
А следующая фотография важна. Так, говорят, в этих местах мишки развлекаются. Садятся на попу на высоком берегу и съезжают в воду, как с горки, увлекая за собой все вставшие на пути деревья.

Мишкина горка.
Важна, поскольку шутка эта так и прошла с нами весь поход – про мишек, съезжающих с горок.
Увидев навигационный знак, ребята на резинке рванули вперед. Впереди – Мосеево, центр средней Пёзы. Вот его первые проявления – на реке появляются островки – мели, огороженные этаким частоколом из палок. Это приспособа для ловли сёмги, здесь ставят снасть, некий аналог мерёжи.
Река тут разлилась, став при этом мелкой. У деревень всегда сложен проход меду мелей и песчаных кос – кошек. Или, наоборот, деятельность человека приводит к тому, что река всегда вблизи деревень широко разливается, образуя мели. И лиственницы с берегов ушли куда-то.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Правый шестой!» – указание штурмана пилоту во время ралли; направление поворота и степень его крутизны. Здесь и далее – Прим. автора.
2
2012 года. Здесь и далее – прим. автора, если не указано иное.
3
Место основания Архангельска.
4
Здесь и далее цитаты, помеченные одной звездочкой, будут приведены по книге: Александр Шренк, «Путешествие к северо-востоку Европейской России…», Санкт-Петербург, 1855.
5
Н. А. Окладников, «Древним Волоком к Пустозерску».
6
Первое упоминание о Пинеге относится к 1137 году – в уставной грамоте о взимании десятины для новгородского епископа с ряда деревень.
7
Самая крупная «подкомандировка» Пинежского отделения Кулойлага (1937 – 1942). Одно из самых зловещих мест ГУЛАГА.
8
Ша́ньги – северное блюдо, круглые открытые пирожки на дрожжевом тесте с начинкой.
9
В 2001—2002 годах на озере отравились токсинами несколько человек, некоторые погибли. Предположения о том, что отравление могло быть вызвано токсичными веществами (гептилом) после падения одной из ступеней ракет, запускаемых с космодрома Плесецк, официально не подтвердились. При обследовании озера телеуправляемым глубоководным аппаратом «Гном» специалисты Института океанологии РАН им. Шершова обнаружили на дне так называемые «ямы», которые периодически выделяют в водную среду газ.
10
Некоторые деревни имели несколько прозвищ – Прим. Николая Окулова
11
«Обозрение Печорского края архангельским губернатором действительным статским советником князем Н. Д. Голицыным летом 1887 года»
12
Генрих Павлович Гунн, «Клейма к иконам северорусских святых».
13
Генрих Павлович Гунн, «Клейма к иконам северорусских святых».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



