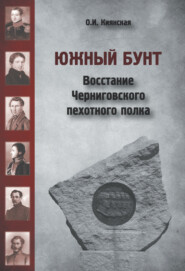
Полная версия:
Южный бунт. Восстание Черниговского пехотного полка
После окончания войны 1812 года пехотные армейские корпуса были прикреплены к определенным – ближайшим к местам их дислокации – комиссариатским комиссиям, и только из этих комиссий обязаны были получать амуницию и деньги. Отношения армейских соединений с этими комиссиями регулировались Высочайшими указами: последний перед назначением Пестеля на должность командира полка такой указ датирован декабрем 1817 года[124]. Согласно ему входивший тогда в состав 22-й пехотной дивизии Вятский полк должен был получать средства из расположенной в украинском городе Балта Балтской комиссариатской комиссии.
Однако два года спустя произошло крупное переформирование и передислокация войсковых частей, и Вятский полк оказался уже в составе 18-й пехотной дивизии. Закон же, как это нередко случалось в России, изменить забыли: хозяйственное довольствование полка стало производиться как из Балтской, так и из Московской комиссариатской комиссии. Это привело к страшной путанице и, благодаря отсутствию контроля, создало широкое поле для всякого рода злоупотреблений.
Согласно материалам расследования по Вятскому полку «отпущенные Комиссией Московского Комиссариатского депо амуничных и в ремонт за 1825 г[од] 6000 руб[лей]» были выданы полку незаконно, «потому что на таковую потребность на тот год отпустила и Балтская комиссия».
Та же Балтская комиссия отпустила полку в 1825 году «несвоевременно и по ее произволу» 5000 рублей – «в счет жалованья» полковым чинам. Выплата произошла на несколько месяцев раньше установленного законом срока, и у следователей не осталось сомнений в том, что «произвол» этот был лишь частью аферы, подобной двум предыдущим. Если бы полковник Пестель не был арестован в середине декабря 1825 года, в срок жалованье было бы выдано снова. Тогда, по мнению следователей, эти деньги остались бы вне поля зрения «инспектора, осматривающего полк»[125].
Только благодаря этим трем однотипным операциям – 1823 и 1825 годов – Пестель получил «чистыми» 14 218 рублей 50 копеек.
С помощью этих денег командир Вятского полка пытался подкупить (и достаточно успешно) своих непосредственных начальников: командира 18-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта князя Сибирского и бригадного начальника, генерал-майора Петра Кладищева.
На допросе в Следственной комиссии хорошо осведомленный в делах тайного общества подпоручик Бестужев-Рюмин признавал, что заговорщики твердо верили в поддержку восстания силами 18-й пехотной дивизии, «которую надеялся увлечь Пестель со своим полком»[126]. О природе этих надежд историки никогда не задумывались; между тем, только двое из шести полковых командиров этой дивизии (Пестель и командир Казанского пехотного полка полковник Павел Аврамов) состояли в тайном обществе.
И надежда на всю дивизию в целом могла возникнуть лишь в одном случае: если заговор готов был поддержать князь Сибирский – дивизионный командир.
В фондах Российского государственного военно-исторического архива сохранилось «Дело о подозрительном письме генерал-лейтенанта князя Сибирского к г[осподину] Заварову насчет поспешнейшей высылки денег 15 т[ысяч] рублей для пополнения суммы, недостающей в Вятском пехотном полку». Письмо это было написано Сибирским в феврале 1826 года – именно тогда, когда в связи с доносом Майбороды в Вятский полк была прислана специальная ревизия. Оно было вскрыто на почте, и его содержание оказалось достойным того, чтобы обратить на себя внимание высшего армейского начальства.
«Мне непременно надо 15 т[ысяч рублей], дабы быть покойным и отделаться от неприятностей, – писал Сибирский своему поверенному в делах. – Вы не знаете, может, что Пестель уже лишился полка, и он наделал по полку много нехорошего, много претензий на нем. И если ты, любезный, не поторопишься собрать сию сумму, то я могу лишиться дивизии… Бога ради, присылкою денег ты спасешь меня; хотя я и разорюсь, но что делать, честь моя не постраждет»[127].
В ходе расследования, проведенного в штабе корпуса, оказалось, что 29 июля 1825 года князь Сибирский взял из артельной кассы Вятского пехотного полка 12 тысяч рублей – внушительную сумму. Деньги эти были выданы князю лично Пестелем: еще в 1822 году он издал приказ по полку, согласно которому распоряжаться артельными суммами без его ведома никто не имел права[128]. Предпринимая комбинацию с артельными деньгами, Пестель и Сибирский позаботились о соблюдении внешних приличий. Сибирский написал «повеление» «о получении сей суммы», и о том, что деньги эти предназначены для «определения» в ломбард.
Правда, за полгода, прошедших до ареста полковника, он ни разу не поинтересовался судьбою этих денег, впоследствии же ведавшая подобными вкладами экспедиция сохранной казны Санкт-Петербургского опекунского совета отозвалась полным неведением о них.
Согласно документам командир бригады Кладищев вынужден был в июне 1827 года внести шесть тысяч рублей в счет амуничных денег Вятского полка[129]. По некоторым сведениям, Пестеля и Кладищева связывали не только «деловые отношения», но и личная дружба. У Пестеля и его бригадного генерала была возможность постоянного ежедневного общения: штаб бригады, как и штаб Вятского полка, находился в Линцах[130].
И к концу своей деятельности заговорщика Пестель мог быть полностью уверен в том, что дивизионный и бригадный командиры не смогут эффективно противиться будущей революции.
* * *С 1824 года главным помощником Пестеля в его финансовых операциях стал капитан Вятского полка Аркадий Майборода, принятый своим командиром в Южное общество и впоследствии предавший заговор.
Аркадий Иванович Майборода, происходивший «из дворян Полтавской губернии Кременчугского уезда», вступил в службу рано, 14 лет от роду. Учебных заведений он не заканчивал, и начал свою карьеру в качестве юнкера в армейском полку. Всю жизнь он оставался крайне необразованным человеком. «Российской грамоте читать и писать и арифметику знает», – гласит его послужной список. Судя по всему, этим исчерпывались его познания в науках. Документы, написанные рукою Майбороды, и в том числе его знаменитый донос, поражают своей безграмотностью.
В Отечественной войне и заграничных походах Майборода не участвовал – очевидно, по молодости лет. Поэтому за годы войны никакого продвижения по службе он не достиг: только прослужив пять лет, стал армейским прапорщиком. Итог первого этапа его службы разительным образом отличался от итога службы Пестеля. Пестель вступил в службу лишь на девять месяцев раньше Майбороды, но у него за плечами были уже Пажеский корпус и война – и поэтому к 1817 году был уже штабс-ротмистром Кавалергардского полка и кавалером пяти боевых орденов[131].
В Вятском пехотном полку, которым командовал полковник Пестель, Майборода появился 24 мая 1822 года[132]. Рекомендовал штабс-капитана Пестелю поручик-заговорщик Николай Басаргин, который считал Майбороду отличным знатоком «фрунтовой науки». Впоследствии Басаргин всю жизнь не мог простить себе этой рекомендации[133].
Карьера Майбороды сразу пошла в гору: он получил под свою команду 1-ю гренадерскую роту и в апреле 1823 года стал капитаном. Осенью того же года за удачное участие 1-й гренадерской роты в Высочайшем смотре Пестель представил его к награде. Майборода получил первый в своей жизни орден – Св. Анну 3-й степени[134]. Еще через некоторое время – в августе 1824 года – Пестель принял Майбороду в тайное общество. Полковник искренне полюбил капитана: об этом свидетельствует, в частности, составленное Пестелем в конце 1824 – начале 1825 года завещание. В завещании часть своих личных вещей он оставлял Майбороде[135].
Впоследствии в своем знаменитом доносе на высочайшее имя Майборода утверждал, что сознательно вступил в общество для того, чтобы предать его правительству. Однако историки весьма скептически относятся к этому его утверждению: показания членов Южного общества на следствии рисуют капитана ревностным заговорщиком, искренне преданным своему начальнику по заговору[136]. Он, например, помогал Пестелю наблюдать за настроениями офицеров в полку, изобретал пути добычи денег для «общего дела» и даже привез своему шефу из Тулы духовое ружье, которое Пестель планировал пустить в ход в случае начала революции[137]. По словам командира Вятского полка, Майборода всегда оказывал ему «большую преданность»[138].
Другую версию причин доноса Майбороды излагают многочисленные мемуаристы. Так, например, Н. В. Басаргин замечает: «В 1825 г[оду] он (Майборода. – О.К.) отправлен был Пестелем в Москву для приемки из комиссариата вещей и каких-то сумм. Промотав там деньги и видя, что ему предстоит гибель, он решился на донос»[139]. А весьма информированный князь Волконский в своих воспоминаниях рассказал эту историю подробно: «Постепенно входя в доверие, он (Майборода. – О.К.) сделался близким к нему (Пестелю. – О.К.) человеком и высказал ему, что если он ему поручит прием комиссариатских вещей и выхлопочет получение оных и заготовление многих заказов для полка в Москве, то все это будет сделано выгодно им в лучшем виде. Пестель обделал, что прием вещей был назначен прямо из Московской комиссии, где удобно можно сойтись с подрядчиками и сделать вольные заказы. Это поручение было Майбороде дано, но впоследствии оказалось, при возврате его, что все обещанное им не исполнено по ожиданиям, и в полученных деньгах Майборода не мог дать надлежащего отчета и потому следовал к законной каре»[140].
Мемуаристам вторят историки: по их мнению, мотивами, побудившими Майбороду сделать донос, были «невозможность отчитаться в истраченных казенных деньгах» и «опасение быть преданным суду за злоупотребления в бытность приемщиком вещей от Вятского полка из комиссии Московского комиссариатского депо, о которых узнал Пестель»[141].
Между тем, для того, чтобы правильно оценить обстоятельства этого доноса, мало знать, что его причиной действительно было некое финансовое злоупотребление Майбороды и что оно случилось «в бытность» капитана «приемщиком вещей» из комиссии Московского комиссариатского депо. Важно понять, что это была за командировка, и какие надежды на нее возлагал сам Пестель.
И мемуаристы, и историки ошибаются, когда говорят о том, что из комиссии Майборода должен был получить лишь вещи для полка. Капитан должен был получить не только вещи, но и деньги, шесть тысяч рублей, – и это была одна из тех трех крупных внешних финансовых операций Пестеля, сведения о которых дошли до нас. Операция эта получила в официальных документах название «предмет о 6-ти тысячах».
Появившись в Москве в начале 1825 года, Майборода предъявил в комиссариатскую комиссию подписанный полковым командиром вятцев и датированный 27 октября 1824 года рапорт следующего содержания: «По случаю болезни полкового казначея командируется избранный корпусом офицеров и утвержденный дивизионным начальником за казначея капитан Майборода, которому покорнейше прошу оную комиссию отпустить все вещи и деньги, следуемые полку против табели, у сего представляемой».
Рапорт этот, сохранившийся в материалах полкового следствия, содержал неверные сведения: полковой казначей капитан Бабаков в этот момент не был болен, он находился в Балтской комиссии, где тоже принимал для полка деньги. Очевидно поэтому, что никакой «корпус офицеров» Майбороду «за казначея» не избирал, поехал же капитан в Москву по прямому приказу Пестеля и с ведома дивизионного командира, князя Сибирского.
«Майборода, – сообщается в “окончательном” докладе по этому делу, подготовленном в 1832 году Аудиториатским департаментом, – явясь в Московскую комиссию, получил от оной сукно и краги; а как Пестель по той ведомости требовал и деньги, то Комиссия, не имея разрешения от своего начальства на отпуск оных, выдала однако же Майбороде 9-го февраля 1825 года 2000 рублей, но выдачею прочих денег остановилась»[142].
Отправляя Майбороду в Москву, Пестель приказал ему в случае какой-либо заминки, связанной с отказом выдать деньги, немедленно забирать полковое требование и возвращаться назад. Однако капитан приказа не исполнил и, «будучи не удовлетворен во всем по табели и ведомости, жаловался о том бывшему генерал-кригс-комиссару Путяте»[143].
Василий Иванович Путята, возглавлявший в 1821–1822 годах Московскую комиссариатскую комиссию, а затем руководивший комиссариатским департаментом Военного министерства, был, скорее всего, старым знакомым Пестеля. По крайней мере, точно известно, что в конце 1810-х годов Пестель и Путята состояли в одной масонской ложе – ложе Трех добродетелей[144].
Кроме того, генерал-кригс-комиссар был отцом известного пушкинского приятеля и литератора Николая Путяты. В показаниях Майбороды сохранилось любопытная подробность: перед отъездом Пестель давал ему «наставления», как себя в Москве вести. При этом командир полка заметил, что генерал-кригс-комиссар «всегда был к нему ласков». А на вопрос Майбороды «не принадлежал ли и он к тайному обществу», ответил: «Нет, сын его наш»[145].
Получив жалобу Майбороды, Путята-старший отдал приказ незамедлительно выдать недостающие суммы.
«Почему Московская комиссия к прежде отпущенным 9-го февраля двум тысячам рублям, выдав Майбороде 16-го марта 2000 рублей и 1-го апреля еще 2000 рублей, донесла о том 30 апреля 1825 года Комиссариатскому департаменту и уведомила того же числа Пестеля и Балтскую комиссию; но сия, до получения еще такового уведомления, и именно 26-го февраля того года, по вступившему в оную от Пестеля рапорту, те же ремонтные и амуничные деньги на 1825 год, всего 4759 рублей, 18 3/4 коп[ейки], отпустила полковому казначею Бабакову. По сему одни и те же деньги по требованиям Пестеля выданы из комиссии двойным числом»[146].
Однако деньги из Московской комиссии до Пестеля не дошли: Майборода их попросту присвоил. В этом едины и официальные документы следствия, и мемуары, и свидетельства военного историка Л. Плестерера, работавшего с исчезнувшими уже в ХХ веке материалами полкового архива вятцев[147].
С точки зрения обыкновенной человеческой логики присваивать эти деньги было весьма глупо. Майборода по службе был полностью зависим от Пестеля, при этом полковник давал ему немало возможностей для карьерного роста. Кроме того, если бы победила замышляемая Пестелем революция – карьере Майбороды позавидовали бы многие. Растрата же означала крах всех его надежд.
Но и для Пестеля эта растрата означала большие неприятности. Опасаясь, что отсутствие денег из Московской комиссии будет вскрыто на инспекторском смотре, командир полка уговорил нескольких офицеров подписать вместе с ним полковую книгу, в которой содержалась запись о «наличии» этих денег. Согласились на это десять офицеров-вятцев, сослуживцев Пестеля[148].
Естественно, что личные отношения Пестеля и Майбороды после этой истории были разорваны. О растрате Пестель узнал в начале лета 1825 года, и после этого, по его собственным показаниям, «весьма сухо» обходился с капитаном[149]. Однако несмотря на «сухость» обхождения Пестеля Майборода имел все основания полагать, что командир покроет и будет продолжать покрывать его растраты. Иначе под «ответственностью» окажутся и он, и вся его тайная организация. Понимал он, что недостача в полку не будет раскрыта и замешанными в «операции» Пестеля дивизионным и бригадным командирами.
Растрату капитана Пестелю необходимо было восполнить, в противном случае история с двойной выдачей сумм могла вскрыться в любой момент. Между тем, сам Пестель был беден, жил только на жалованье, и денег для этого у него оказалось.
Юшневский, скорее всего, имел представление о финансовых операциях Пестеля: пытаясь найти деньги, Пестель обратился за помощью именно к нему. В июле 1825 года командир Вятского полка посылает к генерал-интенданту своего денщика – с просьбой «по секрету взять от него денег». Но к Юшневскому посланец Пестеля не попал. Князь Барятинский «отправил его обратно к Пестелю с запискою, что г. Юшневского не было в Тульчине»[150]. Сведениями о том, что генерал-интендант отлучался в это время из главной квартиры, мы не располагаем; более того, если он все же уезжал, ничего не мешало ему дать необходимые Пестелю деньги после приезда. Но, судя по материалам полкового следствия, Пестелю до самого своего ареста не удалось покрыть растрату Майбороды. Скорее всего, Юшневский просто не хотел выполнять его просьбу о присылке денег.
Финансовая нечистоплотность руководителя заговора, поставившая всю тайную организацию на грань провала, вряд ли могла вызвать сочувствие у честного генерал-интенданта. С лета 1825 года отношения между обоими руководителями Директории становятся весьма напряженными. Они прерывают между собой личные контакты и общаются только в самых крайних случаях через специальных, особо доверенных курьеров.
* * *Тогда же, летом 1825 года, согласно показаниям члена Южного общества квартирмейстерского подпоручика Владимира Лихарева, стать членом тайного общества пожелал начальник военных поселений юга России, генерал-лейтенант граф И. О. Витт. Через своего «доверенного человека», помещика А. К. Бошняка, знакомого с Лихаревым, он выведал тайны заговорщиков, а потом сообщил им, что для исполнения их предприятия «предлагает содействие всех поселений». При этом Витт не хотел быть в заговоре «второстепенным лицом» и потребовал, «чтобы все ему было открыто». В общество его не приняли. И тогда 18 октября генерал специально приехал в Таганрог, чтобы донести на заговорщиков императору Александру I[151].
История доноса Витта на декабристов, несмотря на почти столетнее исследование, до сих пор до конца не выяснена. Почти все историки, занимавшиеся этим доносом, утверждали, что и Витт, и его агент Бошняк были провокаторами, задачей которых было «выведать» состав тайного общества и предать его правительству[152]. Пестель же, получивший заманчивое предложение Витта, был не столь однозначен в его оценке. На следствии он показывал, что это предложение «не было принято, но и не было решительно отвергнуто»[153].
Генерал-лейтенант граф Иван Осипович Витт (1781–1840) – человек яркий и неординарный. Его личный архив, к сожалению, не сохранился – и поэтому мнение о нем можно составить прежде всего по воспоминаниям современников. Сын польского офицера и знаменитой в свое время красавицы и авантюристки гречанки Софьи Потоцкой, Витт был человек крайне тщеславный. «Полный огня и предприимчивости, как родовитый поляк», Витт «с греческою врожденною тонкостью умел умерять в себе страсти и давать им даже вид привлекательный» – так характеризовал генерал-лейтенанта проницательный мемуарист Ф. Ф. Вигель, добавляя, что его «умственная и телесная» деятельность «были чрезвычайны: у него ртуть текла в жилах»[154].
Вся жизнь генерала Витта – это головокружительная авантюра, связанная с разведывательной деятельностью. С юных лет он служил в русской гвардии, принимал участие в военных действиях начала XIX века, под Аустерлицем (1805) был контужен, в 1807 году вышел в отставку. В 1809 году Витт перешел на строну Наполеона и снова начал воевать – на этот раз в составе французской армии. В 1811 году он – тайный агент Наполеона в Великом герцогстве Варшавском.
В 1812 году Витт вернулся в Россию, сформировал на свои деньги несколько казачьих полков и с ними прошел всю Отечественную войну. Император Александр никогда не считал его изменником и не поминал прошлое: видимо, у Наполеона генерал исполнял его собственные задания. После войны Витт командовал крупными воинскими соединениями, внедрял в России военные поселения – и неизменно выполнял конфиденциальные поручения императора. «Секретной» шпионской деятельностью он активно занимался и позднее, при Николае I[155]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Воспоминания Бестужевых. СПб., 2005. С. 41–42; Штейнгейль В. И. Сочинения и письма. Иркутск, 1985. Т. 1. С. 158.
2
Лернер Н. Ad Decabrustiana // Бунт декабристов. Юбилейный сборник. 1825–1925. Л., 1926. С. 398–399.
3
Тургенев Н. И. Россия и русские. М., 2001. С. 385.
4
Кюстин А., де. Россия в 1839 году. М., 1996. Т. 1. С. 249.
5
Восстание декабристов. Документы и материалы (далее – ВД). М.; Л., 1925. Т. I. С. 174.
6
Трубецкой С. П. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1983. Т. 1. С. 229; Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 1990. С. 258; Волконский С. Г. Записки. Иркутск, 1991. С. 371. Ср.: Парсамов В. С. К характеристике личности П. И. Пестеля // Освободительное движение в России: Межвузовский научный сборник. Вып. 19. Саратов, 2001. С. 11.
7
Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 35. Оп. 1/242, св. 33. Д. 1. Л. 6 об. – 7.
8
ВД. М.; Л., 1927. Т. IV. С. 6–7.
9
Соколова Н. А. Военные страницы биографии П. И. Пестеля // 14 декабря 1825 года. Источники. Исследования. Историография. Библиография. СПб.; Кишинев, 2000. С. 115.
10
РГВИА. Ф. 395. Оп. 60, 2 отд., 1 ст., 1816. Д. 142. Л. 3.
11
Чернов С. Н. Декабрист П. Ив. Пестель. Опыт личной характеристики // Павел Пестель: Избранные статьи по истории декабризма. СПб., 2004. С. 133.
12
Соколова Н. А. Указ. соч. С. 105, 122.
13
См. об этом: Киянская О. И. Пестель. М., 2005. С. 55–57.
14
ВД. Т. IV. С. 173.
15
Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951. С. 16.
16
ВД. Т. IV. С. 273, 101, 90–92; М., 1980. Т. XVII. С. 27.
17
Соколовская Т. О. Русское масонство и его значение в истории общественного движения. М., 1999. С. 55, 57.
18
Дружинин Н. М. К истории идейных исканий П. И. Пестеля // Дружинин Н. М. Революционное движение в России в XIX в. М., 1985. С. 312, 311.
19
ВД. Т. XVII. С. 26.
20
Дружинин Н. М. К истории идейных исканий П. И. Пестеля. С. 321.
21
Трубецкой С. П. Указ. соч. С. 218–219.
22
Парсамов В. С. П. И. Пестель и якобинская диктатура // Великая Французская революция и пути русского освободительного движения. Тезисы докладов научной конференции. 15–17 декабря 1989. Тарту, 1989. С. 35.
23
Рудницкая Е. Л. Феномен Павла Пестеля // Annali. Serione storico-politicosociale. XI–XII. 1989–1990. Napoli, 1994. P. 107.
24
Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 165. Ср.: Она же. Союз Спасения // Исторические Записки. М., 1947. Т. 23. С. 168.
25
Дружинин Н. М. К истории идейных исканий П. И. Пестеля. С. 321.
26
Нечкина М. В. «Русская Правда» и движение декабристов // ВД. М.; Л., 1958. Т. VII. С. 20–21.
27
ВД. Т. VII. С. 229, 230.
28
Кропотов Д. А. Жизнь графа М. Н. Муравьева, в связи с событиями его времени и до назначения его губернатором в Гродно. СПб., 1874. С. 192, 194.
29
Трубецкой С. П. Указ. соч. С. 28.
30
Кропотов Д. А. Указ. соч. С. 199.
31
ВД. Т. I. С. 306.
32
Там же. М., 2001. Т. ХХ. М., 2001. С. 394; Т. IV. С. 108.
33
Там же. Т. IV. С. 100–101; Т. ХХ. С. 30, 247.
34
Чернов С. Н. Декабрист П. Ив. Пестель. Опыт личной характеристики. С. 107–109.
35
Одесский М. П., Фельдман Д. М. Поэтика террора. М., 1997. С. 101–102. О том, насколько узнаваема для современников была произнесенная Н. И. Тургеневым фраза, можно судить по одному из эпизодов его собственной книги «Россия и русские»: «Мне даже рассказывали, что один из членов Верховного суда, бывший французский эмигрант и кавалерийский генерал, при решении моей участи так сформулировал свой вотум: “La mort sans phrases”» (Тургенев Н. И. Указ. соч. С. 109). Впрочем, Тургенев утверждал, что был неправильно понят: в данном случае он имел в виду всего лишь выборы президента для ведения собрания.



