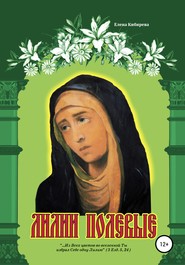скачать книгу бесплатно
Так, прежде всех упоминается о красношейке, которая, прилетев на Голгофу и увидев распятого Спасителя, вспорхнула на вершину Креста и начала старательно выдергивать своим маленьким клювом один за другим шипы из тернового венца, который колол Божественное Тело Христа.
Несколько капель Крови упало на шею и грудь птички и окрасило ее навсегда в красный цвет. С тех пор она и носит название красношейки.
Рассказывают, что и голубка старалась облегчить страдания Распятого тем, что, сбирая по капле росу с листьев масличного дерева, она смачивала ею пересохшие уста Божественного Страдальца.
И неустанный лесной плотник, вечно стучащий дятел, также внес свою долю труда в дело любви, одушевляющее его братьев. В минуту, когда какое-то насекомое хотело напиться Божественной Крови, вдруг зазвенел его голос: «Эр, эр!». Этим он хотел сказать:
– Это Он – Сын Божий, это Его Святая Кровь проливается здесь!
А когда крик не помог, он задавил дерзкое насекомое своим длинным клювом, и с тех пор, как говорит предание, питает он непримиримую вражду к насекомым, которых он неустанно преследует, крича: «Эр, эр!».
Говорится и о клесте, что он старался повыдергать гвозди из Креста, на котором висел Христос. И так как при этой работе он употреблял страшное усилие, то клюв его свернулся в сторону в виде креста и так и остался навсегда, а тело этой птички сделалось нетленным – оно не гниет при кончине, а совершенно высыхает, как мумия.
Но особенно деятельное участие в любвеобильной работе птичьего царства в этот страшный день страданий и смерти Спасителя принимали королек и крапивник. Эти маленькие птички со своими многочисленными товарищами стремительно налетели на толпу римских солдат, рвавших с терновника ветки для приготовляемого тернового венца Спасителя. Оглашая воздух громкими криками: «Цр, Цр!» – все эти милые пичужки стали клевать руки служителей, стараясь вырвать из них новые ветки. В награду за верность и сострадание, выказанное ими, Господь дал им Свое благословение, которое наполнило восторгом их сердца. Потому-то и пение их всегда такое веселое, торжествующее, полное прелестных ликующих, радостных трелей и переливов.
Но о кукушке говорят совсем другое. Говорят, она летела за Иудой Искариотским и, глядя на кошелек, в котором звенели тридцать сребреников, ликовала вместе с предателем, восклицая: «Кук-Кук!».
Кроме того, когда Христос совершал Свое последнее земное путешествие, идя на Голгофу, она летела над Его головой и присоединяла свой голос к насмешкам и издевательствам окружавшей Его толпы.
С тех пор птица эта получила название кукушки.
Она, эта легкомысленная кукушка, прячется от людей, залетая в самую глубь леса, боясь света Божьего мира, где все ей напоминает об ее неизгладимой вине.
Вот что говорят старинные предания о дне Страстной Пятницы – этом великом и скорбном дне!
Дочь Пилата
Восточное сказание
Во дни оны правитель Дамаска Клавдиус Рикс был очень опечален. Прекрасная супруга его Поппея, дочь Понтийского Пилата, повелевавшего в Иерусалиме от имени Цезаря, была охвачена ужасной болезнью – расслаблением.
Ее красивые члены окоченели, тело ее потеряло свою прежнюю гибкость и подвижность, и только на носилках, обвитых багряным бархатом, под атласным покрывалом, несомая рабами, она могла за городскою стеною поглядеть на роскошные сады, окружавшие город прекрасным венком.
Прошло два года с тех пор, как на Поппею нашел этот недуг, а надежды на исцеление никакой не было. Напрасно муж ее призывал из дальних стран и вещих врачей, и славных чародеев, и ученых осмотреть его жену и помочь ей силою их искусства.
Их знания, усилия и опытность оставались бессильными перед упрямством болезни, приковавшей прекрасную молодую римлянку к месту.
Наконец к больной Поппее явился странник, прибывший из Иерусалима, и сообщил ей, что на земле Иудейской появился кудесник, именуемый Иисусом Назарянином. Он совершал чудеса над больными, расслабленных воздвигал на ноги и возвращал им прежнее здоровье и силу. Слепым давал зрение и даже мертвых воскрешал. И возрадовалась при этой вести Поппея, и воскликнула:
– Я поеду, поеду к Этому Кудеснику! Я Ему щедро заплачу своими драгоценными камнями, я отдам Ему мое дорогое ожерелье, сделанное из зеленых алмазов, стоящее пять городов иудейских, лишь бы Он меня вылечил!
Но странник отвечал:
– Прелестная Поппея! Ничто из всего этого тебе не поможет перед Назарянином. Он Сам ходит в лохмотьях и босиком, живет с нищими, ненавидит все мирские суеты, и, если бы ты Ему принесла столько сокровищ, ты все-таки не получила бы Его благословения!
– Что же мне делать, чтобы я могла получить исцеление из Его рук? – вскрикнула беспокойно больная.
– Он требует от тех, кто прибегает к Его помощи, только веровать в Него!
Удивили Поппею эти слова странника, но, подумав несколько и коснувшись чела своей белоснежной рукой, блиставшей блеском драгоценных украшений, она опять спросила:
– Веровать в Него? А как веровать?
– Верить, что Он Сын Божий!
– Сын Божий! Вот это мне не понятно! – и долго она расспрашивала странника.
Много дней и ночей потом провела Поппея в размышлении. И, глядя на свои в расцвете молодости окоченевшие члены, она проливала горькие слезы и плакала, как дитя. Но в душе ее все яснее и яснее возрастал образ таинственного Кудесника, называвшегося Сыном Божиим, Который мог сотворять чудеса, переходящие границы человеческого ума и искусства; и вместе с тем ее желание приобрести вновь прежнее здоровье и молодую ловкость увеличивало в сердце нетерпеливое желание видеть Этого чудного Человека. Она была готова даже поверить в Его Божественность. Если Он стоит духом и силою столь далеко от людей, Он должен быть близко к божествам. Только боги столь всемогущи, что одним взглядом, одним словом могут исцелять безнадежных больных.
– Но наши боги не хотели мне помочь. Попробую силу Бога, Чьим Сыном объявляет Себя Этот Назарянин.
И вера росла в ее душе.
Поппея решила ехать в Иерусалим, где, как ей сказали, нетрудно было встретиться с Иисусом. Но, зная, что муж ее не согласится, чтобы гордая и благородная римлянка унизилась перед жалким еврейским Кудесником, она объявила Клавдию, что у нее сильное желание навестить отца.
Эта прихоть, исполнение которой было сопряжено со столь многими для нее трудами и утомлениями, удивила Клавдия. Но горячие мольбы были столь неотступны, что он в конце концов не смог отказать своей любимой и страждущей жене, положил ее в богатую колесницу с пуховыми шелковыми подушками и выслал ее со своими вернейшими рабами в иудейскую землю.
И вот после того, как она пропутешествовала три дня по дороге, шедшей изгибами вдоль восточных подножий ливанских гор, покрытых великолепными кедрами, Поппея прибыла в иудейскую землю и пополудни третьего дня, проехав Иосафатову долину, приблизилась с колесницей к Иерусалиму. Это случилось как раз накануне еврейской Пасхи.
И когда она начала приближаться к северным воротам города, то увидела вышедшее из него множество народа, среди которого блистали шлемы римских всадников. Это шествие двигалось по направлению к западу – к ближнему лысому холму.
Поппея поглядела на шествие и, не зная его значения, продолжала свой путь. У самых ворот она встретила римского центуриона, ехавшего в сопровождении нескольких воинов по стопам толпы. Она повелела остановить его и спросила, куда идет народ.
– Будет распят на Кресте осужденный на смерть развратитель народа Иисус Назарянин! – отвечал центурион, поклонившись светлой дочери Пилата.
– Нельзя, нельзя! – закричала испуганная Поппея.
– Приостановите казнь! Я требую этого!
Но офицер объявил, что только Пилат может остановить, отменить свое решение, но что до получения приказа об отмене казни пройдет время и преступник будет уже распят. Он очень удивился участию Поппеи к жалкому обманщику и смутителю, обреченному на смерть со стороны самого еврейского народа.
И Поппея, смущенная и отчаянная, обратила взгляд на Голгофу, где уже остановилась толпа и где готовилось что-то ужасное.
– Несите меня скорее туда! Он не должен умереть!
– крикнула она своим людям. И они, переложив ее в носилки, так как к вершине Голгофы колеснице нельзя было приблизиться, понесли прекрасную Поппею к каменистому холму.
Когда они взошли на холм, Поппея в ужасе увидела выпрямленные там три креста, и на каждом из них был прикованный человек.
Приговор был исполнен!
По приказанию Поппеи рабы раздвинули толпу, окружавшую с криком и грубым ропотом кресты, и положили носилки близ них.
Под средним Крестом видно было упавшую почти в обмороке иудейскую женщину: две же другие с лицами, облитыми слезами, ломавшие руки, плача громким голосом, глядели на Мученика, из ран Которого по рукам и ногам текли алые кровавые струи.
Поппея, безмолвная и неподвижная, приковала свои печальные взгляды к страдальческому Лику Христа, на благих чертах Которого видны были ужасные муки распятия. И с ланитами, облитыми слезами, она вместе с другими женщинами смотрела на Распятого.
Бедная Поппея силилась по крайней мере только раз встретить Его взгляд, из которого вопреки неописуемым телесным страданиям светилась через покров скорби заря благословения и всепрощения! Но глаза Христа, устремленные только на плачущую Мать, лежавшую на земле, ни разу не обратились к Поппее.
– Спаси меня, Господи! – шептала она и не отводила глаз с лица Христа.
Внезапно тихий взгляд Христа упал на римлянку. Глаза римлянки, блиставшие слезами, и глаза Иисуса встретились, и несколько мгновений Он смотрел на нее с таким благим, скорбным, глубоким выражением! И тотчас от силы этого взгляда, пронзившего как небесной искрой все ее существо, она почувствовала глубокое и общее сотрясение, и что-то новое, сладкое, бодрое наполнило и душу, и тело…
Пилат ожидал на верхней ступени мраморной лестницы палаты свою расслабленную дочь, предуведомленный о ее прибытии, исполненный тревогой и удивлением, ибо цель ее посещения ему была неизвестна. И когда он увидел, что она едет на колеснице с лицом печальным, то простер объятия, ожидая, дабы его рабы принесли ее наверх к нему, чтобы нежно обнять ее. Но Пилат увидел в изумлении, как Поппея легко выскочила из колесницы, отстранив повелительным знаком его слуг, предлагавших ей златотканые носилки, и сама начала быстро подниматься по мраморной лестнице с ловкостью ливанской газели.
Бросаясь на шею изумленного отца, рыдающая, она возопила:
– Отец! Вы сегодня убили Бога!
И все смотрели на это чудо, не веря в изумлении своим собственным глазам!
Кончина праведника
Письмо Прокулы-Клавдии – жены Понтия Пилата – своей подруге Фульвии
Ты просила, мой друг, описать тебе события, совершившиеся со дня нашей разлуки. Молва о некоторых из них долетела до тебя, и таинственность, в которую она облечена, поселяет в тебе беспокойство о моей участи.
Повинуясь твоему нежному призыву, я стараюсь собрать в моей памяти разбросанные обломки моей жизни. Если в этом описании ты встретишь обстоятельства, которые поразят твой разум, то вспомни, что верховные и творящие силы окружили непроницаемыми тенями наше рождение, существование и смерть и что невозможно слабым и смертным измерить тайны судеб их.
Я не буду напоминать тебе о первых днях моей жизни, пролетевших в Нарбоне, под крылом родительским и охранением твоей дружбы. Ты знаешь, что с наступлением моей шестнадцатой весны я была соединена узами брака с римлянином Понтием, потомком древнего и знаменитого дома, занимавшего тогда в Вирбении важное и великое место. Едва мы вышли из храма, как мне должно было ехать с Понтием в провинцию, ему вверенную. Нерадостно, но и без отвращения последовала я за своим супругом, который по своим летам мог быть отцом моим. Я тосковала о вас, тихом отеческом доме; счастливое небо Нарбоны я приветствовала глазами, полными слез.
Первые годы моего замужества прошли спокойно. Небо даровало мне сына; когда исполнилось ему пять лет, Понтий был назначен проконсулом Иудеи.
В Иерусалиме меня окружили почестями, но я жила в полном уединении. Я проводила время с моим сыном посреди тихих садов, вышивая покровы для Алтарей или читая стихи Вергилия, столь усладительные для слуха и сердца.
Одно лишь из значительных семейств Иерусалима оказывало мне некоторую дружбу. Это было семейство начальника Синагоги. Я находила большое удовлетворение в посещении его супруги Соломии – образца добродетели и кротости, в свиданиях с ее двадцатилетней дочерью Семидой, любезною и прекрасною. Иногда они говорили мне о Боге отцов своих, читали отрывки из священных книг. С некоторого времени Семида была нездорова.
В одно утро при моем пробуждении мне сказали, что Семида скончалась, без предсмертного томления, в объятиях матери. Сраженная грустью при этой ужасной вести, обняв моего сына, я поспешила к ним, чтобы поплакать вместе с несчастной Соломией. Дойдя до улицы, в которой они жили, люди мои с трудом проложили мне дорогу, ибо певчие и толпы народа теснились вокруг дома.
Остановясь у подъезда, я заметила, что толпы народа расступились перед группой идущих, на которую глядели с удивлением и почтительным любопытством. Первым из этой группы я узнала отца Семиды, но вместо горести, которую я ждала прочесть на его почтенном лице, оно выражало глубокое убеждение, странную для меня и совсем непонятную надежду. Подле шли три человека, бедно одетые, простой, грубой наружности. За ними, завернувшись в мантию, шел Муж еще во цвете лет.
Я подняла на Него глаза и вдруг опустила их, как бы перед ярким сиянием солнца. Мне казалось, что тело Его озарено, что венцеобразные лучи окружают Его локоны, ниспадающие по плечам, как у жителей Назарета.
Невозможно выразить тебе, что я почувствовала при взгляде на Него. Это было могущественнейшее влечение, ибо неизъяснимая сладость разливалась во всех чертах Его, и тайный ужас, потому что глаза Его издавали блеск, который обращал меня как бы в прах. Я последовала за Ним, сама не зная, куда иду.
Дверь отворилась.
Я увидела Семиду: она лежала на одре, окруженная светильниками и ароматами. Она была еще прекраснее, чем при жизни, прекрасна небесным спокойствием. Чело ее было бледнее лилий, рассыпанных у ног ее, и синеватый перст смерти оставил следы на ее впалых ланитах и поблекших уже устах.
Соломия сидела подле нее безмолвная, почти лишенная чувств. Она, казалось, даже не видела нас. Иаир, отец молодой девицы, бросился к ногам Незнакомца, остановившегося у постели, и, указывая Ему красноречивым жестом на усопшую, вскричал:
– Господи! Дочь моя в руках смерти! Но, если Ты пожелаешь, она оживет!
Я затрепетала при этих словах. Сердце мое как бы приковалось к каждому движению Незнакомца. Он взял руку Семиды, устремил на нее Свой могучий взор и произнес:
– Встань, дитя Мое!
Фульвия! Она повиновалась! Семида приподнялась на своем ложе, поддерживаемая невидимой рукой, глаза ее открылись, нежный цвет жизни расцвел на ее устах, она протянула руки и вскричала:
– Маменька!
Этот крик воскресил Соломию. Мать и дочь судорожно прижались друг к другу, а Иаир, простершись на земле и осыпая поцелуями края одежды Того, Кого называл Учителем, вопрошал:
– Что должно делать, чтобы служить Тебе?
И Незнакомец отвечал:
– Чтобы получить жизнь вечную, надо изучать и исполнять два правила Закона: любить Бога и человеков!
Сказав это, Он скрылся от нас, как эфирная и светлая тень. Я была на коленях, сама того не зная, и, встав, как бы под влиянием сна, я возвратилась домой, оставив блаженное семейство на вершине наслаждений, для изображения коих не созданы ни кисти, ни перья.
За вечерним столом я рассказала Понтию все, чему была свидетельницей. Он поник головой и сказал:
– Ты видела Иисуса Назаретского! Это предмет ненависти фарисеев, саддукеев, партии Ирода и гордых левитов храма. Каждый день увеличивается эта ненависть, и мщение их висит над головой Его, а между тем речи Назарянина есть речи мудреца и чудеса Истинного Бога.
– За что же они ненавидят Его?
– За то, что Он обличает их пороки. Я слышал Его один день. «Убеленные гробы, порождения ехидны! – говорил Он фарисеям. – Вы взваливаете на рамена братий ваших ноши, до которых бы не хотели коснуться концом пальца. Вы платите подати за травы, мяту и тмин, но мало заботитесь об уплате данного Закона веры, правосудия и милосердия». Смысл этих слов глубокий и истинный, слишком глубокий и истинный. Они раздражают этих надменных людей, и горизонт очень мрачен для Назарянина.
– Но ты будешь защищать Его? – вскричала я с жаром. – Ты ведь имеешь здесь полную власть!
– Моя власть не что иное, как призрак перед этим мятежным и коварным народом. Между тем я бы душевно страдал, если бы должен был пролить Кровь Этого Мудреца! – с этими словами Понтий встал и вышел, погруженный в великую думу. Я же осталась одна в мрачной и невыразимой грусти.
День Пасхи приближался. На этот праздник, столь важный у фарисеев и всех евреев, стекалось множество народа со всех концов Иудеи для принесения в храме торжественной жертвы. В четверг, предшествующий этому празднику, Понтий сказал мне с горечью:
– Будущность Иисуса Назарянина очень неутешительна! Голова Его оценена, и сегодня же вечером Он будет предан в руки архиереев.
Я задрожала при этих словах и повторила:
– Но ты защитишь Его?
– Могу ли я это сделать! – сказал Понтий с мрачным видом. – Он будет преследуем, изменнически предан и осужден на смерть жестокую!
Настала ночь, но едва я склонила голову на подушку, как таинственные грезы овладели моим воображением. Я видела Иисуса, я видела Его Таким, каким Соломия описывала своего Бога.
Лик Его блестел, как солнце.
Он парил на крыльях Херувимов – пламенных исполнителей Его повелений. Остановясь в облаках, Он казался готовым судить поколения народов, собранные у Его подножия. Мановением Своей десницы Он отделял добрых от злых. Первые возносили к Нему сияющие вечной юностью и Божественной красотою веры взоры, а вторые низвергались в бездну огня, с коим ничто не сравнимо, а когда Судия указывал им на раны, покрывавшие Его тело, говорил им громовым голосом:
– Воздайте Кровь, Которую Я пролил за вас!
Тогда эти несчастные просили у гор покрыть их и землю поглотить их – но тщетно. Они чувствовали себя бессмертными для мук, бессмертными для отчаяния!
О, какой сон, или, вернее сказать, Откровение!
Лишь только заря зарумянила вершины храмов, я встала с сердцем, еще сжатым от ужаса. Я села у окна, чтобы подышать свежим воздухом. Мало-помалу мне послышалось, что смертоносный рев выходит из центра города. Крики проклятия, более ужасные, нежели гул взволнованного океана, доходили до меня. Я прислушивалась, сердце страшно билось, чело обливалось ледяным потом. Вдруг я заметила, что этот гул приближается более и более, что под гнетом бесчисленной толпы стонет мраморная лестница, ведущая в претор.
Терзаемая неизвестностью, я взяла на руки сына, который играл подле меня, укутала его в складках своего покрывала и побежала к моему мужу. Дойдя до внутренней двери судилища и слыша за ней голоса, я не смела войти, но приподняла пурпурную занавесь.