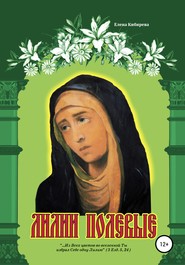скачать книгу бесплатно
– С большим удовольствием, мой дорогой друг! Ты спрашивал меня, что удерживало меня до сих пор от решительности умереть за Христа. Я сказал тебе тогда, что это моя тайна. Вот она. Я дал себе обещание бодрствовать над твоею душой, Панкратий. Эту обязанность налагала на меня наша дружба. Я видел, как сильно желал ты пострадать за Христа. Но ты еще слишком молод, мой дорогой друг, чтобы легко справляться с пламенными желаниями своего сердца. Я боялся, чтобы ты не уронил их священного достоинства какой-нибудь опрометчивой выходкой, которая могла бы набросить тень на твое дело. Вот почему я и решился наложить молчание на самые свои заветные желания до того времени, как увижу тебя вне всякой опасности!
– О, как ты благороден, мой добрый Севастиан!
– Помнишь ли, мое дитя, – продолжал воин, – как я старался помешать тебе разорвать эдикт императорский: помнишь, как я остановил тебя, когда ты хотел обличить судью во время казни Цецилии? Тебе хотелось тогда умереть за Христа, и ты действительно был бы осужден и умер бы, но в твоем судебном приговоре значилось бы, что ты осуждаешься на казнь как политический преступник, за оскорбление законов его величества. Кроме того, мое дорогое дитя, ты мог остаться один в своем триумфе. Может быть, и сами язычники подивились бы тебе и превознесли похвалами как смелого, бесстрашного молодого человека, как героя гражданской доблести… И, кто знает, облако гордости не закралось ли бы в твою душу и не помрачило бы лазурь ясного твоего неба среди самой твоей казни? А теперь ты умираешь единственно за то, что ты христианин!
– Это правда, Севастиан! – сказал Панкратий, краснея.
– Но, – продолжал воин, – когда я увидел, что тебя взяли во время самоотверженного прислуживания исповедникам Христовым, когда я увидел, что тебя влекли по улицам в цепях, как и всякого осужденного, когда я увидел, что тебя, как и других верующих, осыпали насмешками и проклятиями, когда я узнал, что твое имя вписано в смертный приговор наряду с другими осужденными единственно за то, что ты христианин, тогда я сказал себе: «Теперь мое дело кончено, и я не пошевелю пальцем для того, чтобы спасти тебя!».
– О, как ты умен и благороден, и предан, добрый Севастиан! Твоя дружба ко мне похожа на любовь Божию, – сказал Панкратий, заливаясь слезами и бросаясь на шею воина. – Позволь мне предложить тебе еще одну просьбу: не оставляй меня до конца своим участием и передай моей матери мою последнюю волю.
– Желание твое будет исполнено, хотя бы это стоило мне жизни! Впрочем, мы ненадолго расстаемся с тобой, Панкратий, – сказал Севастиан.
В это время подошел диакон и сказал разговаривавшим, что все приготовлено для таинства в самой темнице. Молодые люди осмотрелись вокруг себя, и Панкратий был поражен неожиданным зрелищем, представившимся его глазам.
На полу темницы лежал навзничь священномученик пресвитер Лукиан. Руки и ноги страдальца были обременены тяжкими цепями так, что он не мог пошевелиться. На груди его Репарат положил в три ряда сложенный льняной убрус вместо антиминса и на этот урбус поставил хлеб и сосуд с вином и водою, который поддерживал своими руками. Глаза достойного пресвитера были обращены к нему, между тем как уста его произносили обычные при совершении таинства молитвы.
Затем каждый из присутствующих мучеников стал подходить и со словами благоговейного умиления причащаться Божественного Тела и Крови.
Таково могущество Святой Церкви! Как бы ни были неизменны ее законы, она всегда находила возможным применять их, не нарушая даже в самых исключительных обстоятельствах. И само исключение только более наглядным образом подтверждает общее правило. Это правило – Божественное Таинство Тела и Крови Христовой – должно быть совершаемо на мощах мучеников.
Здесь мы видим совершение таинства на теле мученика и самим мучеником. Правда, он еще жив, его сердце бьется еще под Божественными «стопами Божественного Агнца», но он со всей справедливостью мог бы применить к себе слова апостола: «Живу же не ктому аз, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). Тут он – живой образ Божественного Искупителя, Который в Своей вечной Жертве был и «приносяй», и «приносимый». И едва ли был когда-нибудь жертвенник, более достойный Жертвы!
«Христианское чтение», апрель 1864 г.
Святой союз. Глубокая вера в Божественную помощь
Однажды жестокосердному, грозному правителю города донесли весть об одном христианине, что этот человек замышляет убить его. Правитель быстро послал за ним своих слуг. Когда слуги привели к нему этого человека, то правитель сказал:
– Мне донесли, что ты поносишь меня и замышлял обо мне худое.
– Нет! – сказал Мирос, так звали христианина. – Я не поносил тебя, я называл тебя только жестокосердным, каков ты и есть! Я не замышлял против тебя худое, я только обличал зло, какое ты делал.
– Негодяй! – сказал правитель. – Все равно ты за это должен умереть на кресте.
– Я готов на смерть! – отвечал Мирос. – Я не стану тебя молить о пощаде! Но дай мне, ради Бога, три дня свободы, чтобы проститься с моей родней. Я оставлю друга своего порукой в том, что вернусь на смертную казнь!
Правитель согласился:
– Хорошо. Я отпускаю тебя, но ежели ты через три дня не вернешься, то я предам друга твоего на мучение. Если уж придется казнить твоего заложника, так его казнь может искупить твою вину!
Правитель не поверил Миросу.
«Пусть же народ узнает, – подумал он, – как христиане обманывают своего Бога».
Мирос пришел к своему другу и рассказал ему, что правитель приготовил его к смертной казни на кресте, но дал ему три дня свободы, чтобы проститься с семьей, с условием, чтобы он оставил за себя кого-нибудь, и спросил, согласен ли друг побыть за него три дня в темнице. Верный друг с радостью согласился исполнить просьбу своего любимого друга, обнял его на прощание и дал отвести себя в темницу. Он сказал:
– Я верная за него порука, и если друг мой не вернется, то я приму его казнь на себя.
Его закрыли в подвал. Тем временем Мирос прибыл в свое селение, рассказал о предстоящей казни, простился с семьей и родными и сказал:
– Простите, время истекает, и если я не вернусь вовремя на казнь, то пострадает за меня мой друг.
Родные всеми силами старались задержать его подольше при себе, чтобы он опоздал на казнь и остался жив. Но Мирос вырвался от них и пустился в дорогу.
Страшно спешил он, но вдруг поднялась буря, завыл ветер, заблестела молния и разразилась гроза; зашумел ливень с гор, в долины помчались потоки воды и залили всю окрестность на пути. Перед путником зашумела река, вздулись сильные волны, ударяясь одна об другую, и сорвали мост.
Страдалец метался взад и вперед, нигде не видя ни единого человека. Бедный Мирос был весь в слезах, подавленный горем. Он упал на колени, и, весь переполненный думой о своем любимом друге, взмолился:
– Боже! Что мне делать? Время истекает!
Он простер свои руки к Небесам и вскричал:
– Боже! Усмири эти волны. Время бежит, солнце давно уже зашло за полдень; если оно зайдет, а меня не будет – мой друг пострадает за меня!
Но пучина ревела все сильнее, волны набегали на волны и минута летела одна за другой. Отчаяние поглотило страдальца, он смело бросился в кипящий поток и стал разбивать волны своей рукой. Наконец он достиг берега, но едва сделал несколько шагов, как навстречу ему выскочила буйная ватага разбойников, и, загородив ему дорогу, они подняли на него дубины.
– Что вам от меня нужно? – сказал страдалец. – У меня ничего нет, есть только жизнь, но она мне нужна для спасения своего друга! – и горячие слезы заструились по его лицу.
Он глядел на разбойников таким молящим взором, полным душевной муки, что они смутились и, расступившись, дали ему дорогу. Осужденный на смерть спешил, солнце жгло его страшным зноем, воздух становился все более душным, нигде не было ни тени, и путник обессилел. Он упал на колени и взмолился:
– О Боже! Не Ты ли вынес меня из водной пучины, не Ты ли спас меня от разбойников?! Так помоги мне спасти моего друга! – и он припал к земле со стоном.
И вдруг он услышал журчание ручейка. Страдалец подполз к нему, жадно прильнул и, освежив свое истомленное тело, собрал силы. Затем он с трудом стал пробираться по знойной долине и увидел, что длинные тени от деревьев легли на луга. Бедный Мирос стонал и плакал, из раненых ног его струилась кровь, но, несмотря на страшные, мучительные боли, мысли его о любимом друге бежали одна за другой.
И вот наконец показался город. Солнце уже заходило за городские ворота. Страдалец собрал последние силы. Со стоном и воплем молился он Богу:
– Боже! Дай мне силы. Боже, задержи палачей, чтобы мне застать живого друга!
В слезах он не видел, как перед ним глумился народ. Когда бедняга увидел, как на канате поднимают его друга на крест, он быстро растолкал народ и закричал:
– Палачи! Прекратите казнь, я тот, за кого он поручился!
Его держали и говорили:
– Спасай себя, ему уже предстоит смерть.
Но страдалец закричал громче:
– Если я его не спасу, то пусть погибнут две жертвы. Я разделю с ним такую же участь, и пусть узнают, как друзья умеют любить и верить друг другу!
Палачи услышали голос страдальца, казнь была прекращена. Весь народ со слезами глядел, как друзья бросились навстречу друг другу и, крепко обнявшись, зарыдали в дружеских объятьях. У правителя дрогнуло сердце, и он приказал палачам отменить казнь этих людей:
– Они победили мое сердце! – сказал он. – Я вижу в них святую дружбу. Хотелось бы и мне познать сладость такой дружбы и вступить в их Святой Союз!
Подвиг матери
Из жизни святой Моники – матери Блаженного Августина
I
В главном соборе африканского города Тагаста было совершенно пусто, сумрачно и прохладно.
Огни трепетно мерцали перед ликами святых, но их свет был слишком слаб, а лучи догорающего солнца не заглядывали внутрь храма. Только клочок яркого синего неба да вершины ближайших гор виднелись из окна.
Был будний день, и в храме собралась незначительная кучка молящихся. Отошла вечерня, храм опустел. Осталась одна только женщина, та, которую знали все сторожа, знали священники, знал весь клир.
В длинном темном платье, с покрывалом, опущенным до самых глаз, она становилась всегда на одном и том же месте, в глубине мраморной ниши у колонны, опускалась на колени и, казалось, замирала в молитве.
Каждое утро на рассвете, едва пурпурная заря показывалась на восточном крае неба, она приходила сюда, в это место своего успокоения, и молилась так, что смотревшим на нее казалось, что она сейчас умрет. Казалось, душа человеческая не могла выдержать такой муки, какую таило в себе ее сердце, и слабое тело не в состоянии было вынести такого напряжения духовных сил.
После литургии она молча оделяла бедных на паперти храма и уходила. А вечером опять приходила первой, опять становилась на свое место и, когда затихали вечерние песнопения, еще долго оставалась одна и лежала на холодной плите перед темным и скорбным Ликом Спасителя, смотревшего на нее со стены храма.
Никто не тревожил ее, никто не подходил к ней. Только дивились люди ее терпению и страданию. Только изумлялись сами священники великой вере женщины.
Звали ее Моника. О чем скорбела она? О чем день и ночь молила Бога? От чего истаивало сердце ее в муке? Только один во всем Тагасте, ее духовник, мудрый и опытный старец, знал тайну ее сердца. На него, как на опытного кормчего, опиралась и полагалась она в момент самой величайшей ярости житейского моря.
Его дожидалась она и теперь. Давно она уже не слыхала его ободряющего, вдохновенного слова… А оно нужно было ей теперь. Страшно нужно. Она изнемогала в своей скорби, она в самом деле могла умереть.
Молиться… Она не молилась, она не могла ни молиться, ни плакать… Она точно застыла, закаменела от того ужаса, который проникал во все ее существо, от ужаса матери, видевшей неизбежную вечную гибель ее единственного сына Августина!
…Ее милый мальчик! Разве не отдавала она его Христу еще в те дни, когда носила его под сердцем? Разве потом, в самом нежном возрасте, она не старалась показать ему чудный, несказанно прекрасный образ Христа-Спасителя и наполнить его детское сердце горячей, неотпадающей любовью к Нему? А потом, когда умные глазки ребенка с любопытством устремлялись на Божий мир, не указывала ли она ему за этими ярко блестевшими звездами на Творца Вселенной и не пела ли вместе с ним гимны хвалы и благодарности Богу?
И все усилия, молитвы долгих лет, слезы бессонных ночей, весь подвиг материнства оказались напрасными! Рядом с ее влиянием было влияние на Августина со стороны отца: пылкий, страстный, честолюбивый, он передал огонь своей души по наследству сыну.
Когда Августину было еще девять-десять лет, Моника уже видела с болью в сердце, что мальчик ее не будет принадлежать ей, и еще меньше – Христу! Ее связывала с сыном глубокая, самая нежная любовь, но имя Иисуса редко срывалось с уст ребенка: образ Христа, видимо, заслонился в его душе яркими образами языческого мира и, когда мать начинала ему говорить о любви, о самопожертвовании, смирении и молитве, он смущенно молчал, стыдясь признаться, что его тянет к себе чувственная, земная жизнь, что он мечтает о славе, о счастье, в самом даже грубом значении этого слова. И чем дальше шло время, тем ярче образовывался характер мальчика.
Сколько слез пролила Моника, чтобы убедить мужа, что на опасный, скользкий путь жизни ставит он сына!
Ее увещевания вызывали только смех с его стороны.
– Августин должен учиться, а потом сделаться знаменитым оратором. У него такие дарования, что было бы грешно зарывать их в землю, – возражал отец, с гордостью любуясь сыном.
И это была правда: в школах Тагаста Августин учился так блестяще, что обратил на себя внимание всех учителей. Ему обещали широкое и завидное будущее. Он был горд и в высшей степени счастлив.
В 16 лет он уехал в Карфаген, в столицу Африки. Отец заплатил безумные деньги, чтобы дать сыну возможность слушать лучших учителей Карфагена, но отец не видел и не хотел видеть, что мальчик уже был заражен нехорошими взглядами и его нельзя было одного выпускать из дома.
Но он отпустил, и Августин уехал.
И вот спустя два-три года до Моники дошли слухи о божественных способностях ее сына, о его блестящих успехах, но… вместе с тем она узнала то, чего больше всего на свете боялась. Ее мальчик, плоть от плоти ее, упал так низко, так позорно, что лучше бы ей живой было сойти в могилу, чем видеть его…
Молиться! Нет сил молиться больше. От ужаса умерла, кажется, ее собственная душа. Все темнее и темнее в соборе. И вместе с сумраком растет и скорбь.
– Дочь моя! Мир Христа да будет с тобою! – вдруг услышала она голос, вздрогнула и очнулась.
Старик-духовник стоял перед нею. Тихий стон и вопль сорвался с ее уст. Она пошатнулась и упала к его ногам:
– Отец! – и не могла больше сказать ни слова.
– Что случилось?
Если бы он знал, что случилось! Слезы сжали горло, и вдруг рыдания, разрывающие сердце, огласили каменные своды полутемного храма. Казалось, лики святых, строгие и суровые, зарыдали над этой скорбью. Плакала Моника. Плакал и молился духовник.
Время исчезло. Стены раздвинулись, само небо принимало эту молитву и эти слова. Наконец властная и нежная старческая рука легла на склонившуюся голову рыдающей матери. И лежала так, пока она не затихла, словно подкрепленная благословением, которое низводила эта рука.
– Что случилось с Августином? Он умер?
Старец слишком хорошо знал Монику, чтобы подумать, что она убивается из-за физической смерти сына.
Несколько секунд длилось молчание. И опять та же ласковая рука легла ей на плечи:
– Иди и не плачь! Не может погибнуть дитя таких слез!
В этих словах было спокойствие и уверенность пророка. Моника поднялась. Была ночь, когда она вышла из храма. Крупные сверкающие звезды смотрели на нее из темной бездны неба, и в тишине ночи слышались ободряющие пророческие слова:
– Не может погибнуть дитя таких слез!
II
Злобно крутилось и пенилось житейское море: кидало, крутило в своих волнах Августина. Успех, слава венчали каждый из его дней.
Он быстро сделался одним из самых видных учителей красноречия, получал огромные суммы денег и пользовался всеми благами жизни. И, однако, в это же время он упал в самую глубину порока и неверия. Как это случилось, он и сам не заметил: просто его увлек поток жизни, увлек пример распущенной молодежи. Где-то в тайниках его души, куда и сам он не дерзал опуститься, мерцал слабый огонек, зажженный когда-то рукой верующей матери, но пусто, темно и холодно было у него на душе. И от ощущения этой пустоты ни слава, ни наслаждения не удовлетворяли его… Все приелось, все порождало тоску, граничащую с отчаянием.
Шли год за годом. Мужал гений Августина, росла его слава, росла и неотступной становилась тоска. И, чтобы заглушить эту тоску, он пытался как-нибудь решить вековечные вопросы, терзающие душу человека.
Он бросался от одной ереси к другой, от философии к философии, и до такой степени огрубел его ум, что Самого Бога он не мог представить себе никак иначе, как в материальном виде. Мучаясь, скорбя и томясь от уз плоти, он искал истины и не находил.
Временами поднимался он над пеной житейских волн, временами падал в их глубину. И не знал, что на далекой родине много лет день и ночь молится за него мать. Не знал, только бессознательно чувствовал это, и имя матери, как и имя Христа, никогда по забывчивости не произносил в момент погружения в лоно страстей. Эти два имени были для него святыней.
Ересь манихеев, учащих, что существует два равных начала, добра и зла, что Бог материален, на долгое время овладела его душой. И, только когда главный учитель этой ереси Фауст оказался перед ним, Августином, только блестящим говоруном, он с негодованием отвернулся от него и от его учения и вскоре после этого бросил Карфаген и уехал в Рим.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: