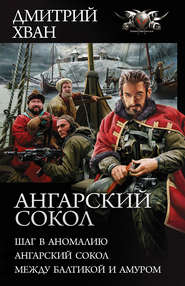скачать книгу бесплатно
На две снайперки СВД было около девяти тысяч выстрелов. Наличествовало двадцать два бронежилета и двадцать две «Сферы». Около ста гранат РГО и РГН. Практически аналогичным было и состояние вооружения в Белореченском посёлке, только у них не было касок и броников. Да и запасы стволов находились только у новоземельцев.
– Ну что, ребята, пришёл и наш черёд защищаться. Надеюсь, справимся не хуже наших товарищей, – напутствовал полковник солдат и рабочих у ворот перед выходом в засады.
Солнце медленно катилось к закату, морпехи, заняв позиции, выжидали врага. Пока было тихо, с Байкала сигнала не поступало. По идее, байкальская шестёрка должна была, визуально встретив туземцев, передать сигнал на базу и, сопровождая нападающих, выдвигаться к посёлку, попутно постаравшись вычислить князя. Так в ожидании уже стукнуло три ночи, потом четыре, солнце уже понемногу вставало со стороны Байкала.
Продрогшие до костей морпехи уже собирались потихоньку сниматься с засад, оставляя по паре человек в секретах, чтобы отдохнуть и согреться. Смирнов уже и добро дал, как внезапно из леса донёсся странный шум, похожий на шуршание сотен ног в сухом, подмёрзшем снегу.
Тут же Зайцев с берега передал о подходе пяти лодок, в одной из которых, без сомнения, находился князь. Сержант выделил его среди остальных по богато расшитому халату да высокой меховой шапке. Поза и жесты также говорили о его власти над окружавшими его людьми.
Лодки пристали к берегу, и тунгусы, подхватив какие-то шесты, направились к возвышающемуся над обрывом частоколу. Обойдя обрыв, туземцы стали составлять и связывать шесты в лестницы, Зайцеву стало ясно – вот группа, которая должна будет объединить усилия с людьми Хатысмы в посёлке для преодоления частокола. Зайцев радировал Смирнову о ситуации, тот приказал пока вести эту группу, держа на прицеле.
В становище Хатысмы пока было тихо, Петренко передал сообщение о полной тишине в округе. Только с позиций Смирнова продолжали улавливать шумы из леса, правда, сильно мешал небольшой ветерок с Байкала, создающий дополнительный шум в кронах деревьев.
Вскоре появились дополнительные звуки – явное бряцание железа и конское всхрапывание.
Внезапно Петренко сообщил о пяти-семи силуэтах, появившихся между пустых чумов.
– Снайперу работать на поражение, – жёстко приказал Смирнов.
Ствол СВД ходил из стороны в сторону, выцеливая в рассветном сумраке фигурки, враз заметавшиеся оттого, что их товарищи падали от невидимого врага.
– Меняем позицию, вперёд, – восьмёрка морпехов из засады выдвинулась на край становища, проверяя работу снайпера. Тот сработал профессионально, «трёхсотых» не было. Последнего, седьмого нападавшего успели остановить на опушке редколесья за кочевьем.
– База, нападавших уничтожили – семь «двухсотых», ждём, – передал Петренко.
– Отлично, парни, оставайтесь пока на позиции. Зайцев, что у тебя?
– Норма, полковник. Чужие на месте, человек двадцать, держим.
– Работайте, князя не зацепи, он нам нужен.
Таким образом, сковав все группы нападавших, Смирнов скомандовал готовиться к отражению атаки на посёлок. С частокола неясно виднелись редко мелькающие среди деревьев тени, но общая картина состояния атакующей стороны была абсолютно неясной. Полковник подозвал бойца с гранатомётом.
– А ну, залепи по центру! – указывая пальцем направление, приказал Смирнов.
Заряд ярким светом разорвал на мгновение мглу лесной опушки и между деревьев, и благодаря этой вспышке ясно разглядели приготовившиеся к атаке ряды воинов. Первый ряд составляли лучники с зажигательными стрелами, тлеющий трут которых они до этого момента прикрывали. От количества чужих воинов у полковника глаза полезли на лоб.
– Да сколько же их здесь! Огонь! Огонь!
С частокола и башен забили автоматы, вся стена посёлка окрасилась вспышками выстрелов. Всё это продолжалось минуту, может две, воздух буквально разрывался от грохота. Смешавшиеся ряды воинов Немеса давили и опрокидывали друг друга, сбивали с ног, падали в снег, закрывая руками уши. Среди княжеского войска вовсю гуляла Смерть, она заглядывала каждому воину в глаза, хватала ледяной рукой за сердце.
Набивка стёганых халатов вылезала клочьями, щедро окрашиваясь кровью. Воины, ещё минуту назад предвкушавшие грабёж посёлка, теперь сломя голову бежали прочь от этого страшного места. В пару минут всё было кончено, а от былого многочисленного войска князя остались сущие огрызки.
Немного ранее на берегу Байкала князь с лучшими воинами готовились штурмовать незащищённую стену посёлка. Они подобрались уже почти вплотную к частоколу, когда прогремел разрыв гранаты, выпущенной из РПГ, оглушительно прокатившись по окрестности. Вражеские воины в ужасе замерли. А через мгновение всё вокруг было наполнено адскими звуками одновременной работы пары десятков АКС.
– Огонь, парни, – крикнул, пытаясь заглушить лезший в уши грохот, Зайцев.
Пять АКС и СВД снайпера присоединились к утреннему пиршеству смерти. Видя, как вокруг него падают и корчатся лучшие воины, Немес практически потерял рассудок и, сделав пару неловких шагов, завалился в снег. Пробуя подняться, он протянул руку бывшему рядом с ним всю жизнь старому воину, тот, пытаясь помочь своему господину, поспешил поднять его, но тут же, отброшенный невидимым врагом, навзничь упал в снег, окрашивая его в пронзительно красный цвет. Внезапно грохот кончился и наступила не менее страшная тишина, наполненная вскриками и стонами раненых людей. Старый воин, лежащий рядом, ещё дышал, его хрип и свист из пробитой шеи морозом отдавались на коже князя. Немес закрыл лицо руками и принялся раскачиваться из стороны в сторону, совершенно не замечая подошедших морпехов.
– Всё, крякнулся мужик, – заявил один из воинов Худехея-мергена, великого громовержца неба, но Немес ничего не понял.
Он почувствовал великую слабость в теле, голова показалась ему слишком тяжёлой, и он снова рухнул лицом в снег.
Морпехи прикладами подогнали четырёх оставшихся в живых воинов из свиты князя и, указав им на бесчувственное тело их господина, знаками приказали поднять его и следовать к острогу.
Глава 8
Посёлок Новоземельский. Поздняя осень 7136 года (1628)
Утро, вступившее, наконец, в свои права, открыло взгляду картину последствий бойни. Вокруг лагеря лежали в самых разных позах убитые и ещё живые воины, многие из которых были без сознания. Люди из группы Петренко привели в посёлок шесть пойманных в лесу коней, оставшихся без всадников. Майор отметил низкорослость этих лошадок, но было видно, что порода выносливая, ходившая как под седлом, так и в упряжи.
– О, а вот это неплохо! Лошадки нам пригодятся, – Смирнов потрепал холку рыжей кобылки. – Отведи их к бараку. Будет на чём целину поднимать! Майор, отбери мужиков Хатысмы, пускай они собирают раненых. Трупы потом зароют. Вы с бойцами пошарьте по лесу, если встретите кого, отгоняйте одиночными подальше. А с этими-то нам что делать? – он озадаченно смотрел на группу пленных. Их было около двадцати человек, большинство раненые. – Пока отгоните их к частоколу, потом с ними решим. Так, парни, и князя ко мне в избу. Кто свободен от нарядов, собирайте гильзы, может, пригодятся потом.
Тунгусы заносили в посёлок всё новых раненых, большинство были тяжёлыми, стало ясно, что долго они не протянут. В полевых условиях небольшая бригада новоземельских медиков явно не справится не то что со всеми, тут на одного требовалось масса времени и сил. Смирнов с ужасом заметил, как лихо мурманские врачи принялись за запасы перевязочных и обезболивающих средств. Он быстрым шагом направился к медикам.
– Девчонки, не возитесь с тяжёлыми, всё равно не спасём. Лёгких перевязывайте без обезболивания.
– Но мы не можем так! – с вызовом ответила одна из молодых медиков.
– Можете! Да и что ты предлагаешь? Мы сейчас весь запас перевязочных средств изведём, а нам ещё куковать тут сколько? А если наших парней подстрелят, чем ты им будешь обезболивание делать?! – заорал на врача полковник, сильно покраснев от внезапно нахлынувшего гнева. Поостыв, он сказал: – Это не последняя атака на наш посёлок, и если так будет продолжаться, все наши медикаменты кончатся на втором-третьем нападении. Тут не Мурманск, никаких запасов препаратов нет. Никаких! Делайте, как говорю.
Врач, закусив нижнюю губу, кивнула.
Полковник, увидев главного медика посёлка Дарью Поповских, поспешил к ней, желая обсудить своё указание лекарям:
– Дарья, ты вот что… Ты видела, как твои девчонки резво тратили препараты? – Получив в ответ утвердительный кивок, продолжил: – Так вот, надо создавать свой запас лекарственных трав и растений, а то… – увидев упреждающий ещё один кивок, полковник вопросительно выгнул брови.
– Да мы уже занимаемся этим делом, Андрей Валентинович! Тут целые заросли бадана, например, а из его листьев и чай можно заваривать, и при гинекологических проблемах применять. Да тут множество всего: мать-и-мачеха, солодка, одуванчик, пустырник, – улыбнулась Дарья. – Пчёлы нужны для получения прополиса. Пробуем уже картофель обрабатывать для будущего получения пенициллина из образуемого грибка. Короче, не беспокойтесь, все указания я уже дала. Будем заготавливать, сушить. Ягодные сборы тоже будем производить, тут я и мужичков хочу припахать.
– Дарьюшка, ты молодец, слов нет! – восхищённо сказал Смирнов, отметив, что у него улетучился весь негатив, а на душе стало спокойнее.
К середине дня оставшиеся в живых нападавшие после уборки трупов были согнаны у верхних ворот посёлка, смотревших на редколесье, туда же отправили легкораненых. Туземцы, думая, что их сейчас будут убивать, молили победителей о пощаде, хватали морпехов за рукава и что-то пытались объяснить этим сильным воинам. Морпехи вяло отпихивали их от себя, беззлобно матерясь.
В лесу бойцы отыскали большую поляну, где воины князя устроили себе ночной бивуак перед нападением. К посёлку парни притащили много кожаных мешков с припасами: зерно, копчёная рыба, вяленое мясо.
– Половину пускай забирают и катятся к чертям собачьим, – передал распоряжение Смирнова Петренко. – Там, ниже по Байкалу у них, по-видимому, лодки стоят. А часть верхом пришла. Хорошо бы и остальных лошадей себе забрать.
Оттащив несколько мешков в сторону, бойцы указывали на них туземцам и махали в сторону леса. Буряты, не веря в такую милость победителей, робко жались друг к дружке, понемногу отступая от посёлка. Наиболее смелые хватали мешки и, всё ускоряя шаг, отходили к лесу, часто оглядываясь. Наконец, удалось отправить всех, кроме одного бурята. Совсем молодой парень наотрез отказывался уходить с остальными.
Петренко заинтересовало такое странное желание, крикнули Алгурчи с сыном. Горящий желанием всячески помогать поселковым тунгус с ревностным усердием переводил сыну с бурятского языка, а тот переводил русским с эвенкийского. Оказалось, у парня в посёлке остался тяжело раненный отец, поэтому он не мог уйти.
– Что же, пускай заботится о нём. Оставьте его, я думаю, товарищ полковник не будет против, – разрешил Петренко.
Переживших день тяжелораненых бурят оставили на попечение тунгусов, отправленных в своё становище. Перед этим Смирнов, с помощью Огирэ, обратился к ним с предложением немедленно уйти прочь всем тем, кто не желает подчиняться ему и помогать другим жителям посёлка. Их никто не будет наказывать, а если наберётся достаточное количество желающих, им будут выделены даже пара оленей. Желающих уйти не нашлось. Пришлось выгнать только умолявшего оставить его Хатысму да его семью. За пару дней умерли почти все тяжелораненые, у тунгусов остались лишь двое подопечных: пожилой воин с простреленным лёгким и перебитой рукой и его сын, неотступно находившийсяся рядом с ним.
– Ну что, как он? – Смирнов по три раза на дню заходил к пускающему слюни Немесу.
Бурятский князь так и не пришёл в себя, совершенно выжив из ума. Он не реагировал ни на какие вопросы, редко его сознание озарялось более-менее осмысленным взглядом, но и это длилось недолго. В конце концов ставший полным овощем князь был сбагрен на руки тунгусам.
Больше за зиму на русские посёлки никто не пробовал нападать, видимо, все желающие получили информацию о полном разгроме довольно сильного, по местным меркам, князя Немеса с кыштымами. Так что зима прошла относительно спокойно, разве что отелилась одна олениха. Смирнов, по примеру Соколова, устроил во втором отстроенном бараке начальную школу для тунгусов, дабы упростить общение между двумя группами жителей посёлка. Также все женщины из числа учёных и врачей, некоторые рабочие, что имели проблемы обращения с оружием, проходили тренировки на овладение стрельбой и обхождения с автоматом АКС и пистолетом АПС. Цинги, которой сильно боялся Радек, удалось избежать с помощью отваров из осиновых почек, молодых сосновых игл и молока, а небольшой запас витаминных комплексов оставили на совсем уже критический случай.
А вот пример, поданный Петренко и Мышкиной, оказался заразительным. В посёлке за зиму образовалось уже больше двух десятков пар. По весне предстояла большая работа по строительству новой жилплощади для семей.
В Белореченском посёлке происходило аналогичное – пары сходились одна за другой.
Москва. Весна 7137 года (1629)
Имение боярина Савелия Кузьмина, ничем не выделявшееся на фоне остальных, раскинулось на холме высокого берега Москва-реки. Боярин, чьи предки были насильно переселены из Новгорода в Москву ещё Иваном Третьим, занимался скупкой пушнины и тканей, имел свои ряды на Нижегородской ярмарке у стен Макарьевского монастыря. Были у него также свои поставщики товара из Персии и Хивы, и в целом он слыл весьма зажиточным и, самое главное, удачливым торговцем. Вот и сейчас, ранней весной, все его помыслы были связаны с предстоящей в июле ярмаркой. Прикидки о количестве закупаемого товара, охране, новых приказчиках, да сколько лодий будет необходимо к лету, сейчас занимали его всего без остатка. С самого утра ушлый купец, сидя в своём кабинете, скрипел перьями по жёлтой бумаге, прикидывая очередной вариант закупок да возможную прибыль.
В дверь осторожно постучали.
– Заходь, Николашка, – не отрывая взгляда от бумаги, громко сказал Савелий.
– Савелий Игнатич, тут такое дело…
– Говори, не мямли, не с девкой, поди, разговариваешь, – прикрикнул на приказчика боярин.
Жестом подозвав того к столу, он отложил перо и внимательно посмотрел на Николашку. Приказчик осторожно передал запечатанный сургучом конверт в кожаном футляре.
– Вот, только сейчас человек принёс.
– А сам он где? Чего говорил?
– Так уже ушёл, а сам он ничего не говорил.
– Ладно, иди. И скажи подать обед в горницу, я сейчас спущусь.
Однако Савелий долго не спускался, оставаясь за столом и держа лист с тайнописью перед собой. Да и отложив его, он оставался погружён в тяжёлые мысли. Так что он и не сразу услыхал стук в дверь.
– Чего тебе опять надобно?! – воскликнул Кузьмин, очнувшись от раздумий.
– Обед стынет, боярин… – робко пробормотал приказчик.
– Ну и чёрт с ним, прикажи возок готовить, к Борецким поеду.
– Да, боярин, сей же час будет готов.
Савелий решительно встал и, вложив письмо в футляр, стал одеваться в дорогу.
«Писано боярину Кузьмину Савелию от Олексашки Малого из Тобольского городка. Стало ведомо нам о явлении людишек новгородских близ пределов царства Сибирского, кои на Тунгуске реке живут. Напоив государева человечка из Енисейского острогу, подменили мы письмецо, что он промеж всего на Москву вёз. В письме том словами сотника казацкого Бекетова Петра да воеводы Енисейского Василя Аргамакова писано, что де людишки новгородские, как они себя кличут, нежданно явились. Сильны они крепко, ворогов бьют. И де царство их стоит за морем. А в землице сибирской они промышляют зверя лесного. Так мы письмецо сожгли то, да вот теперь не знаем, как дальше дела вести. Как скажешь, боярин, ожидаем письма твоего. В Новгород и Тверь отписали также, кому ты знаешь…»
Солнце уже здорово припекало, в шубе было жарко, но сменить её на кафтан Савелию не очень хотелось – его соболья шуба и высокая горлатная шапка была предметом зависти для местных бояр и купцов. Возок лихо трясло на поворотах, тающий рыхлый снег летел мокрыми комьями из-под полозьев, обдавая неловких прохожих. Возница ловко управлял лошадьми, помня приказ боярина поторапливаться. Кузьмин, сидя в возке, старался заранее продумать беседу с Дмитрием Борецким, таким же как и он сам представителем высланного из Великого Новгорода боярского рода. Но из головы его не выходило загадочное заморское государство новгородцев. Странно, ведь он сам не верил в возможность такого поворота событий. Нет, ну то, что в своё время из Новгорода бежало несколько родовитых семей с домочадцами и дворней, он знал. Но чтобы так далеко их забросила судьба… не очень-то и верилось. Поэтому он надеялся на беседу с Борецким, как с человеком, умудрённым опытом, дал же Бог прожить ему столь долгую жизнь. Ведь восьмой десяток разменял боярин, а жив и здоров да умом крепок.
«…а пока отослал я для порядку людишек своих до Енисейского острога, а там и до новгородцев, с Божьей помощью доберутся. Да разведают, что у нех ныне делается и вперёд учнётся делать. Сколько у нех людишек да припасов. Иванко сотоварищи, которые посыланы были для проведыванья новгородских людишек, зело добрые и верные нам. С тем и желаю вам, Божьей милостию, всего наилучшего от Олексашки Малого с Тобольского городка лета 137-го».
Кузьмин, прочитав тайнопись ещё раз, сложил письмо в футляр, оставив тот в руке. Тем временем подъехали к дому Борецкого. Возница, деловито оправляя упряжь, дал время боярину выйти на крыльцо встретить гостя с почётом. Опростав горячего сбитня, Кузьмин поклонился Борецкому. Тот пригласил его в дом и только тогда бояре, наконец, обнялись. Крепко, по-дружески.
Борецкий читал долго, а после прочтения сильно задумался, прикрыв глаза. Наконец, сняв расшитую золотыми нитями тафью с головы и степенно поглаживая себя по бритой макушке, он медленно произнёс:
– Не ожидал я таких известий, Савелий. Бог свидетель, не ожидал, весьма добрая весть, весьма. Да. – Кузьмин молчал, ожидая, что Борецкий продолжит свою мысль. – Мой отец рассказывал мне ещё в отрочестве о бежавших встречь солнцу из Великого Новгорода семьях бояр. Но… мне казалось это красивой легендой, ведь ни нам, Борецким, ни вам, Кузьминым, не удалось отстоять права жить в отчине. Мы смирились с этим. Другие смиряться не желали, а ушли.
– Стало быть, теперь вернулись, Дмитрий Васильевич?
– Вернулись? Наперво, проверить сие надо крепко, убедиться в том, что не наговор это.
– Так проверим же. Отослано ещё по письму в Великий Новгород к боярину Авинову Петру да в Тверь, боярину Судакову Анисиму.
– Крепкие то наши люди, а мошна у них ещё крепче, – усмехнулся старик.
Разговор тянулся степенно и неторопливо, прервавшись лишь на воздаяние должного уважения трапезе. Воистину, умение стряпух боярина Борецкого было известно округе не хуже купеческой удачи Кузьмина.
Перед сном Кузьмин взвешивал в мыслях разговор, мечтая о великих делах. Ведь Сибирское царство стоит на полпути от царства Индийского и Китайского, а это давало огромные возможности для успешной торговли. Рашид, его поставщик тонких тканей из Хивы, много раз упоминал про близость этих богатых царств, о торговле и богатых барышах, сулившихся при торговле с ними. Да и к пушнине поближе, можно будет скупать её у вольных казачков да туземцев и по меньшей цене. Так, размышляя о выгодах сибирской торговли, Савелий Кузьмин незаметно угодил в цепкие объятья Морфея.
Удинский острожек, май
В мае Карпинский опять вернулся в острожек, сменив предыдущую партию морпехов, только теперь в пятёрке поселковых появился новичок – молодой тунгус из первого разбитого кочевья. Он уже вовсю разговаривал по-русски, так что проблем, которые были раньше, не существовало. С казаками за зиму сдружились конкретно, мужики оказались мировые. Правда, поначалу они казались какими-то нелюдимыми, но то было попервости. Со временем мужики совсем скорешились, кстати, Пётр узнал много интересного и в то же время пугающего о жизни Московского государства и простых его людей.
Интересными были рассказы о приключениях казаков в Сибири, о городках и острожках, ими строимых. О быте, о семьях, правда, некоторые, такие как Афанасий Хмелёв, семьи своей и не знали. Воспитывался при церкви в Свияжске, работал на церковных полях, рубил лес, строил. А с семнадцати лет просто взял и ушёл в Казань, прибился к небольшой ватажке казаков, отправляющихся в Сибирь на промысел ясака да приведение под государеву руку диких племён. Так и мотался по Сибири, пока не осел в Енисейском остроге, став десятником у Петра Бекетова.
Пугающими были рассказы казаков о смуте и запустении в Московии, о голоде – привычном спутнике крестьянина, о войнах и походах иноземцев в русские пределы. Рассказывали государевы люди о бесчинствах поляков и литвинов на Руси, о притеснении православной веры на землях, ими захваченных. О злом Крымском ханстве, кровавым клещём присосавшемся к русским землям, и об Османском государстве, за ним стоявшем и поработившем многие народы православной веры, которые сейчас стонут под их игом. Как представителям Новгорода, морпехам особенно подробно рассказывали о резне в Новогородии, устроенной шведскими захватчиками, когда целые волости просто вырезались под корень, и не оставалось в округе живой души – ни человека, ни собаки.
Пётр сидел у костра и ужасался подробностям, которые вываливали на бойцов не смущавшиеся по этому поводу казачки. Оказывается, шведы только лет десять назад ушли из Новгорода, а до этого сам город и большая часть северо-западной Руси находилась под пятой шведского солдата, залившего всё кровью несчастных жителей. Из Новгорода-то шведы ушли, но оставили за собой большую часть новгородских земель, закрыв Руси выход в Балтику.
– Эх, при Иване Великом-то свеи не баловали так, – приговаривал Хмелёв.
Странно, но русский разговорный язык семнадцатого века был не столь сложен для понимания и уже через пару недель, выспросив у казаков про особенно непонятные слова и термины, люди из двадцать первого века уже понимали их практически полностью. Как рассказал Кабаржицкий, получалось примерно как в Югославии, где он был в середине девяностых: сербы и русские говорили на своих языках, но друг друга понимали хорошо. Так и тут – самим говорить на языке Московии не получалось, разве что ввернуть ради красного словца что-нибудь эдакое, но понимали практически всё. Так же дело обстояло и у казаков, так что проблем с общением не наблюдалось, к общему удовольствию.
Карпинский вдоволь наигрался и с оружием казаков: помимо страшных на вид бердыша, сабель и копий у них имелось в острожке три фитильных ружья. Сначала еле упросив Хмелёва дать ему разок выстрелить из такого раритета, потом Карпинский десять раз пожалел об этом. Это же сколько всего надо было сделать, чтобы эта дура наконец выстрелила. Зато уж когда ему удалось воспламенить порох через затравочное отверстие в стволе, последующий выстрел потряс его и в буквальном и в переносном смысле.
– Да-а, конечно, неплохо. Но у вас слишком сложно всё, – сказал Пётр, возвращая ружьё лыбившемуся Афанасию, когда дым от выстрела почти рассеялся.
На следующий день после удачной рыбалки обитатели Удинского острога сидели на островном берегу, смотрящего в сторону Ангары. День неторопливо клонился к вечеру, неожиданная майская жара спала и наконец-то задул долгожданный прохладный ветерок. Пётр, нанизывая на отобранные Новиковым у Игоря-почвоведа шампуры куски потрошеной рыбы, лениво поинтересовался у Афанасия:
– А что, Афоня, когда, говоришь, твои должны быть?
– Да хоть вчера, хоть завтра, Пётр. Енто мне не ведомо, но пора бы уже, – снимая первую партию рыбного шашлыка, ответил Хмелёв. – Думаю, что сегодня будут.
Заметив удивлённый взгляд десятника, он указал шампуром с нанизанным кусочком рыбы на приближающуюся лодку. Возвращались двое казаков, посланные в полдень на Ангару в дозор.
– О, так и есть, Макарка со Жданом поспешают, ишь шапкой машет, точно наши идут! – Хмелёв вскочил и, сорвав с кудлатой головы шапку, тоже истово завертел ею, звонко свистя.
Разделывавший рыбу тунгус тоже поднялся с брёвнышка и заинтересованно глядел на реку, приложив ко лбу ладонь и заслоняясь от солнца.
– Смотри, Петя, за той ещё лодки, – он указал на появившиеся за первой лодкой другие.
– Нет, это не лодки, это… – Карпинский силился вспомнить, как это можно назвать.
– Струги енто, Петя! – рассмеялся над Карпинским десятник.