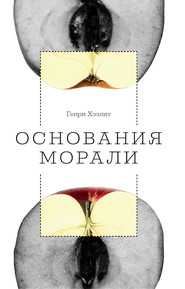скачать книгу бесплатно
Вот история об окулисте и пьянице, столь древняя, что даже Бентам
передавал ее как старинную. Один поселянин, повредив свое зрение пьянством, пришел за советом к знаменитому окулисту. Врач сидел за стаканом вина. «Вам надо бросить пить», – сказал врач. «Как так! – удивился поселянин. – Вы же не бросаете, а ваши глаза, сдается мне, тоже не в лучшем состоянии». «Это совершенно справедливо, приятель, – ответил окулист. – Да только, знаешь ли, бутылка мне милее глаз».
Как же нам в таком случае перейти из формата желания на уровень этической теории?
Мы найдем решение, если представим все в более длительной и широкой перспективе. Все наши желания можно в общем виде описать как желания заменить менее удовлетворительное положение более удовлетворительным. Несомненно, что под влиянием влечения или страсти, приступа гнева или ярости, злобы, жажды мести, тяги к обжорству или непреодолимого желания получить сексуальное удовлетворение, закурить, выпить или принять наркотик человек в долгосрочной перспективе может лишь привести более удовлетворительное состояние к менее удовлетворительному, может сделать себя менее счастливым. Но переход в это менее удовлетворительное состояние не будет его сознательным намерением даже в момент совершения действия. Задним числом он понимает, что поступил неправильно, не улучшил свое состояние, а ухудшил его, что действовал не в своих долгосрочных интересах, а вопреки им. В спокойные моменты он всегда готов признать, что должен выбирать такие действия, которые максимально способствуют его интересам, максимизируют его счастье (или минимизируют несчастье) в долгосрочной перспективе. Люди рассудительные и дисциплинированные не позволяют себе сиюминутных удовольствий, если видят, что потворство желаниям в долгосрочной перспективе приведет лишь к перевесу невзгод и страдания.
Подведем итог: неверно, что «никакая совокупность сущегопе порождает должного». На самом деле должное основывается и должно основываться либо на том, что есть, либо на том, что будет. Логика здесь простая: любой человек в здравом состоянии ума стремится к своему счастью в долгосрочной перспективе. Это – факт; это сущее. За многие столетия человечество выяснило: определенные правила поведения лучше других способствуют в долгосрочной перспективе счастью как отдельно взятого человека, так и общества. Эти правила действия получили названия нравственных правил. Поэтому – если принять в качестве посылки, что каждый стремится к своему долгосрочному счастью, – это такие правила, которым должно следовать.
Собственно, это и есть основа так называемой пруденциальной этики, или этики благоразумного расчета. Пожалуй, единственным альтернативным определением пруденциальной этики может быть такое: это мудрость или искусство жить мудро.
Пруденциальная этика составляет весьма значительную часть всей этики. Но и этика в целом покоится на том же самом основании. Ибо люди обнаруживают, что в долгосрочной перспективе они наилучшим образом действуют в собственных интересах тогда, когда не просто воздерживаются от причинения вреда другим, а сотрудничают с ними. Общественное сотрудничество – главное средство, с помощью которого большинство из нас достигает большинства своих целей. И если не на открытом, то, во всяком случае, на молчаливом признании этого обстоятельства в конечном счете и основаны наши моральные кодексы и наши правила поведения. Да и сама «справедливость» (в чем мы с большей несомненностью убедимся ниже) состоит в соблюдении правил или принципов, которые в долгосрочной перспективе более всего способствуют сохранению и развитию общественного сотрудничества.
В ходе дальнейшего исследования нашего предмета мы увидим также, что не существует непримиримых противоречий между эгоизмом и альтруизмом, между себялюбием и благожелательностью, между долгосрочными интересами отдельного человека и интересами общества. В большинстве случаев, когда такие противоречия все же представляются существующими, это представление возникает потому, что во внимание принимаются не долгосрочные последствия, а только краткосрочные.
Общественное сотрудничество, естественно, само является средством. Это средство, помогающее движению к никогда полностью не достижимой цели – максимизации счастья и благополучия человечества. Но большим препятствием тому, чтобы это счастье стало нашей общей непосредственной целью, служит отсутствие единства во вкусах, личных устремлениях и ценностных суждениях индивидуумов. Действие, доставляющее удовольствие одному человеку, может быть крайне неприятно другому. «Что полезно одному, то вредно для другого». Тем не менее общественное сотрудничество – великое средство; благодаря ему мы все помогаем друг другу в достижении в достижении наших личных целей и тем самым способствуем достижению целей «общества». Кроме того, у нас на самом деле много общих базовых целей, а социальное сотрудничество – главное средство достижения также и этих целей.
Иными словами, цель каждого из нас – удовлетворить собственные желания, обрести как можно более полное личное счастье и благополучие – лучше всего достигается с помощью общего средства, Общественного Сотрудничества, и без него достигнута быть не может.
Вот это и есть основание, на котором мы можем выстраивать рациональную систему этики.
Глава 4
Удовольствие как цель
1. Иеремия Бентам
Учение, согласно которому удовольствие, или наслаждение, – это единственное конечное благо, а страдание – единственное зло, во всяком случае, не моложе времен Эпикура (341–270 гг. до н. э.). Однако с самого начала это учение было осуждено как еретическое всеми ортодоксальными или аскетическими моралистами и впоследствии пережило почти полное забвение, пока не возродилось в XVII–XVIII вв. Мыслителем, который изложил его в наиболее бескомпромиссном, детальном и систематическом виде, был Иеремия Бентам
.
Если судить по количеству упоминаний о Бентаме и его учении в специальной литературе – пусть даже в большинстве своем критических, неодобрительных или насмешливых, – то он остается самым обсуждаемым и влиятельным моралистом Нового времени. Поэтому целесообразно будет начать с анализа гедонистической доктрины в том ее виде, как она изложена Бентамом.
Наиболее известная (и наиболее аутентичная)
формулировка содержится во «Введении в основания нравственности и законодательства». Вступительные строки книги смелы и решительны: «Природа поставила человечество под управление двух верховных властителей, страдания и удовольствия. Им одним предоставлено определять, что мы можем делать, и указывать, что мы должны делать. К их престолу привязаны, с одной стороны, образчик хорошего и дурного и, с другой, цель причин и действий. Они управляют нами во всем, что мы делаем: всякое усилие, которое мы можем сделать, чтобы отвергнуть это подданство, послужит только к тому, чтобы доказать и подтвердить его. На словах человек может претендовать на отрицание их могущества, но в действительности он всегда останется подчинен им. Принцип полезности признает это подчинение и берет его в основание той системы, цель которой возвести здание счастья руками разума и закона. Системы, которые подвергают его сомнению, занимаются звуками вместо смысла, капризом вместо разума, мраком вместо света».
Как свидетельствует второе предложение приведенной выше цитаты, Бентам намечает различие между тем, что потом стало называться теорией психологического гедонизма (утверждающей, что мы все-таки всегда предпринимаем действия, которые, по нашему мнению, принесут нам наибольшее удовольствие), и тем, что получило название этического гедонизма (эта теория утверждает, что нам надлежит предпринимать действия, приносящие наивысшее удовольствие или счастье). Впрочем, анализ этой запутанной проблемы можно отложить до следующей главы.
Далее Бентам разъясняет:
«Принцип полезности есть основание настоящего труда, поэтому будет не лишним в самом начале дать точный и определенный отчет о том, что понимается здесь под этим принципом. Под принципом полезности понимается тот принцип, который одобряет или не одобряет какое бы то ни было действие, смотря по тому, имеет ли оно (как нам кажется) стремление увеличить или уменьшить счастье той стороны, об интересе которой идет дело… Я говорю: какое бы то ни было действие, и потому говорю не только о всяком действии частного лица, но и о всякой мере правительства.
Под полезностью понимается то свойство предмета, по которому он имеет стремление приносить благодеяние, выгоду, удовольствие, добро или счастье (все это в настоящем случае сводится к одному), предупреждать вред, страдание, зло или несчастье той стороны, об интересе которой идет речь: если эта сторона есть целое общество, то счастье общества; если это отдельное лицо, то счастье этого отдельного лица»
.
Впоследствии Бентам несколько пересмотрел свои идеи или, во всяком случае, их формулировки. Он признал, что своим «принципом полезности» обязан Юму, но пришел к выводу, что принцип этот слишком широк. Полезность для чего? Из работы Пристли «О государственной власти» (1768) он заимствовал формулировку «наибольшее счастье наибольшего числа людей», но потом заменил ее и «полезность» Принципом величайшего счастья. Еще позже, как явствует из «Деонтологии», он заменил «удовольствие» на «счастье» и «наибольшее счастье» и в той же «Деонтологии» сформулировал следующее определение: «Нравственность есть искусство как можно больше увеличивать счастье; она предоставляет свод правил, предписывающих такое поведение, результат которого, если иметь в виду всю совокупность человеческого существования, доставляет наибольшее количество счастья»
.
2. Обвинение в чувственности
Однако самая мощная волна критики обрушилась на формулировку, приведенную в «Основах нравственности и законодательства» (и на распространенные ложные интерпретации теории Бентама, преподносившие его идеи в искаженном виде).
Поскольку главная задача вводных глав моей книги состоит в том, чтобы заложить основы положительной теории нравственности, я остановлюсь лишь на некоторых аспектах справедливости или несправедливости этой критики и рассмотрю их применительно не столько к теории Бентама как таковой, сколько к гедонистическим или эвдемонистическим учениям вообще.
Самый распространенный упрек гедонизму или утилитаризму со стороны антигедонистов и антиутилитаристов гласит: «удовольствие», объявленное целью всякого действия, имеет чисто физический, чу ветвенный характер. В частности, Шумпетер называет гедонизм «самой плоской из всех мыслимых философий жизни» и утверждает, что образцом «удовольствия», о котором здесь идет речь, является удовольствие от поедания бифштексов
. Такие моралисты, как Карлейль, без колебаний именовали гедонизм «свинской философией». Этот упрек приводится с незапамятных времен. Слово «эпикуреец» стало синонимом слова «сластолюбец», а последователей Эпикура обзывали «свиньями» Эпикура.
Весьма близок к этому и почти столь же распространен другой упрек: гедонизм и утилитаризм по сути дела проповедуют философию чувственности и вседозволенности, философию сластолюбия и распущенности.
Не будем отрицать: люди, которые преданы чувственным удовольствиям и подводят под свои наклонности теоретическую базу, действительно есть, и их немало. Но они не найдут одобрения ни у Бентама, ни (если говорить более широко) у любого крупного утилитариста.
Если же вернуться к Бентаму, то ни один из тех, кто его читал, не сможет с чистой совестью предъявить ему обвинение в превознесении чувственности
. В детальном перечне «удовольствий» при их классификации Бентам указывает не только чувственные удовольствия (к числу которых относит удовольствие здоровья) и не только удовольствия богатства и власти (включая удовольствия от приобретения и обладания), но удовольствия памяти и воображения, воспоминания и ожидания, дружбы, доброго имени, благочестия, благожелательности, или доброй воли. (Сверх того, он был достаточно реалистичен и беспристрастен, чтобы включить в свой список удовольствия недоброжелательства, или злой воли).
А когда Бентам переходит к вопросу о том, как удовольствия <или страдания> следует измерять, оценивать или сравнивать, он перечисляет семь критериев, или «обстоятельств»: 1) их интенсивность; 2) их продолжительность; 3) их несомненность или сомни тельность; 4) их близость или отдаленность; 5) их плодовитость (шансы на то, будут ли за ними следовать ощущения погоже рода); 6) их чистота (шансы на то, что за ними не последуют ощущения противоположного рода); 7) их распространение (т. е. число лиц, на которых они простираются)
.
Приведенные высказывания Бентама, я полагаю, свидетельствуют о несомненных изъянах его учения. В их числе неспособность создать убедительное «исчисление гедонизма» (впрочем, упорные усилия добиться этого сами по себе заслуживают большого уважения). К ним же относится склонность Бентама рассматривать «удовольствие» и «страдание» как нечто такое, что можно абстрагировать и изолировать от всех конкретных удовольствий и страданий, а потом оперировать ими как физическим или химическим «сухим остатком» или как однородным раствором, поддающимся количественным измерениям.
К этим вопросам я еще вернусь. Здесь я только хочу подчеркнуть, что ни Бентама, ни утилитаристов, взятых в целом, никак нельзя обвинить в том, что они понимают «удовольствие» как чисто чувственный феномен. И то обстоятельство, что они делают акцент на достижении удовольствия и избегании страдания, никак не означает, что они готовы проповедовать распущенность и вседозволенность. Критики гедонизма и утилитаризма настаивают на том, что сторонники этих учений измеряют все удовольствия только их интенсивностью. Но ключевые критерии в списке Бентама – продолжительность, плодовитость и чистота. И самый важный из них – продолжительность. Рассматривая добродетель как «эгоистическое благоразумие», Бентам постоянно подчеркивает, как важно не жертвовать будущим ради настоящего, как важно отдавать «предпочтение более значительному будущему перед менее значительным текущим удовольствием»
. «Разве воздержность – не добродетель? Конечно, добродетель. Но почему? Потому что, сдерживая удовольствие на время, она потом возвышает его до той самой вершины, которая доставляет, в масштабах целого, самую большую прибавку к общему количеству удовольствия»
.
3. Счастье наибольшего числа людей
Учение Бентама было превратно истолковано еще в одном важном отношении, и это в значительной мере его собственная вина. Одна из формулировок, которая ему приписывалась и когда-то цитировалась его последователями с наибольшим одобрением, но теперь является излюбленной мишенью критиков, такова: «Наибольшее счастье наибольшего числа <людей>». Однако, во-первых, как мы видели, она не принадлежит самому Бентаму, а заимствована им у Пристли (Хатчесон и Беккариа высказывали нечто подобное еще раньше); во-вторых, сам Бентам впоследствии от нее отказался. В обоснование своего решения он положил довод гораздо более ясный и убедительный, чем (насколько можно судить) любой из аргументов, выдвинутых критиками. Он приведен Баурингом на последних страницах первого тома посмертной «Деонтологии», и я изложу его своими словами.
Принцип наибольшего счастья наибольшего числа людей проблематичен, поскольку его можно истолковать как пренебрежение чувствами или участью меньшинства. И эта сомнительность возрастает пропорционально тому, чем меньше различие по численности между большинством и меньшинством.
Представим сообщество числом в 4001 человека, из которых «большинство» составляет 2001, а меньшинство 2000 человек. Допустим, что изначально каждый из 4001 обладает равной долей счастья. Если мы теперь заберем эту долю у каждого из 2000 и распределим среди 2001, счастье не возрастет, а, напротив, сильно уменьшится. И если чаяния меньшинства будут проигнорированы в соответствии с принципом «наибольшего числа», образовавшийся вакуум легко может заполниться наибольшим несчастьем и страданием. В конечном итоге сообщество получит не выигрыш в счастье, а большой убыток.
Или предположим, что эти 4001 человек изначально полностью равны друг другу в плане обладания средствами счастья: у каждого одинаковая власть и одинаковое богатство, одинаковое крепкое здоровье, одинаковая свобода и независимость. Представим теперь, что 2000 человек или любое менее значительное меньшинство мы поставим в положение рабов и разделим их вместе с их бывшим имуществом между 2001 человеком. Насколько возрастет счастье меньшинства в сообществе? Каким будет итоговое счастье сообщества в целом? Ответы самоочевидны.
Чтобы придать своим доводам максимальную наглядность, Бентам поставил вопрос так: что будет, если взять всех католиков Англии, превратить их в рабов и разделить между всеми протестантами, а в Ирландии, наоборот, всех протестантов таким же образом разделить между католиками?
Таким образом, Бентам вернулся к Принципу наибольшего счастья и определению конечной этической цели как достижения предельно возможного счастья для сообщества в целом.
4. «Удовольствие» против «счастья»
Эта формулировка конечного критерия моральных правил оставляет многие трудные вопросы без ответа. Некоторые из них мы можем рассмотреть позже; но есть и такие, на которые мы не можем не ответить уже сейчас, даже если наши ответы будут пока предварительными. Одни из этих вопросов имеют по преимуществу семантический или лингвистический характер; другие – скорее психологического или философского свойства; наконец, в ряде случаев сложно определить, с какой проблемой мы имеем дело – с вербальной, психологической или моральной.
В первую очередь это относится к использованию терминов «удовольствие» и «страдание». Сам Бентам, как мы видели, сначала систематически использовал эти термины в своей этической системе, но потом все чаще заменял «удовольствие» «счастьем». Однако он неизменно настаивал на следующем: «Счастье есть совокупная величина, составными частями которой являются удовольствия… Не будем сбивать ум с правильного пути поисками различий между удовольствиями и счастьем… Счастье без удовольствий – это химера и противоречие в определении; это миллион без составляющих его единиц, квадратный ярд, в котором не будет квадратных дюймов, кошелек с гинеями, но без единого атома золота»
.
Однако понимание счастья как чисто арифметического суммирования единиц удовольствия и страдания в наши дни не встречает поддержки ни у специалистов по этике и психологов, ни у обычных людей. Да и использование самих понятий «удовольствие» и «страдание» по-прежнему доставляет сложности. Когда некоторые исследователи, пишущие об этике, заявляют, что эти понятия следует использовать и понимать в чисто формальном смысле, это нисколько не помогает делу
. Привычка ассоциировать эти понятия с чисто чувственным и плотским удовольствием столь сильна, что на подобную рекомендацию никто не обратит внимания. Тем временем антигедонисты осознанно или неосознанно используют эту ассоциацию для высмеивания и дискредитации тех утилитаристов, которые пользуются упомянутыми понятиями.
Мне представляется, что с точки зрения здравого смысла ради максимального устранения недоразумений следует если не совсем отказаться от использования терминов «удовольствие» и «страдание» в этическом дискурсе, то, во всяком случае, прибегать к ним как можно реже.
Глава 5
Удовлетворение и счастье
1. Роль желания
Современная теория эвдемонистической этики в терминологическом плане оформлена по-другому. Обычно она оперирует не понятиями удовольствия и страдания, а понятиями желания и удовлетворения. Благодаря этому она избегает некоторых психологических и вербальных разногласий, порожденных прежними теориями удовольствия/страдания. Как мы отметили в главе 3 (с. 16), все наши желания можно общим образом описать как желание заменить менее удовлетворительное положение более удовлетворительным. По выражению Локка, человек действует, поскольку ощущает то или иное «беспокойство»
и стремится, насколько возможно, это беспокойство устранить.
Поэтому в данной главе я выступлю в защиту по крайней мере одного вида теории «психологического эвдемонизма». Против внешне схожих теорий, именуемых «психологическим гедонизмом» или «психологическим эгоизмом», резко выступают многие современные теоретики этики. Мы же обратимся к критическим замечаниям более раннего автора, Хастингса Рэшдалла.
Критикуя «психологический гедонизм», Рэшдалл указывал, что тот покоится на фундаментальной инверсии – на искажении истинного порядка логического следования, на перемене местами причины и следствия: «Из того факта, что некая вещь желаема, вне сомнения, следует, что удовлетворение желания непременно будет иметь результатом удовольствие. Удовольствие безусловно связано с удовлетворением любого желания. Но совсем другое дело утверждать, что объект желаем постольку, поскольку он мыслится как приносящий удовольствие, и желаем в той мере, в какой представляется приносящим удовольствие. Гедонистическая психология страдает тем, что принято называть неправомерной логической инверсией: она ставит телегу впереди лошади. На самом деле не желание создается воображаемой приятностью, а воображаемая приятность желанием»
.
В ходе этой критики Рэшдалл, однако, вынужден был кое с чем и согласиться, а именно с тем, что люди стремятся к удовлетворению своих желаний, каковы бы эти желания ни были: «Удовлетворение каждого желания непременно выражается в акте реального удовольствия и, следовательно, в идее воспринимается как приятное еще до того, как желание удовлетворено. Это объективная истина, которой, по сути, и объясняются все преувеличения и ошибочные толкования гедонистической психологии»
.
И здесь мы получаем более надежное (по сравнению с со старой психологией удовольствия и страдания) положительное основание, на которое можем опираться. Немецкий философ Фридрих Генрих Якоби (1743–1819) утверждал: «Мы изначально желаем или вожделеем нечто не потому, что оно является приятным или благим; напротив, мы называем этот предмет приятным или благим потому, что желаем или вожделеем его, и делаем это постольку, поскольку наша чувственная или сверхчувственная природа того требует. Таким образом, не существует иного основания для выявления благого и достойного желания, чем сама способность желания, т. е. само первичное желание и влечение»
. Но все это еще раньше сказал Спиноза в «Этике» (часть III, теорема IX, схолия): «Мы стремимся к чему-либо, желаем чего-нибудь, чувствуем влечение и хотим не вследствие того, что считаем это добром, а наоборот, мы потому считаем что-либо добром, что стремимся к нему, желаем, чувствуем к нему влечение и хотим его»
.
Бертран Рассел, чьи этические взгляды претерпели множество небольших изменений и по меньшей мере одно революционное, тоже пришел к этому мнению, о чем свидетельствуют две его книги, опубликованные с разницей почти в 30 лет. Начнем с более ранней формулировки: «Существует взгляд, сторонником которого является, например, д-р Дж. Э. Мур, что “благо” – это неопределимое понятие и что нам априори известны некоторые общие суждения о вещах, которые являются благими сами по себе. Такие вещи, как счастье, знание, красота, согласно д-ру Муру, являются общеизвестными благами; столь же общеизвестно, что нам надлежит действовать так, чтобы создавать благое и предотвращать дурное. Раньше я и сам был того же мнения, но изменил его, – отчасти под влиянием книги Сантаяны “Ветры доктрин”. Сейчас я думаю, что хорошее и плохое – это производные от желания. Разумеется, я далек от упрощенного представления, что хорошее есть то, что желается: ведь желания у людей разные. На мой взгляд, “благо” – это прежде всего социальное понятие, созданное для того, чтобы найти выход из конфликта желаний. А конфликт существует не только между желаниями разных людей, но и между несовместимыми желаниями одного человека в разное время и даже в одно и то же время»
. Затем Рассел переходит к вопросу о том, как можно примирить друг с другом желания отдельно взятого индивида и как, если это вообще осуществимо, можно гармонизировать желания разных индивидов.
В работе «Человеческое общество в этике и политике» (опубликована в 1955 г.) он возвращается к этой теме: «Под “правильным” поведением я понимаю такое поведение, которое с наибольшей вероятностью создаст перевес удовлетворения над неудовлетворением или лишь минимальный перевес неудовлетворения над удовлетворением; с точки зрения этой оценки вопрос о том, кто получает удовлетворение, а кто испытывает неудовлетворение, следует считать несущественным… Термин “удовлетворение” я предпочитаю терминам “удовольствие” и “интерес”. Термин “интерес” в его обычном употреблении имеет слишком узкое значение… Термин “удовлетворение” достаточно широк, чтобы охватить все, что доставляет человеку осуществление его желаний, причем эти желания могут быть совершенно не связаны с эгоистическим интересом, если не считать того, что они принадлежат конкретной личности. Можно, например, желать – как я желаю, – чтобы было найдено доказательство последней теоремы Ферма; можно быть довольным, если блестящий молодой математик получит приличный грант, позволяющий ему заняться этой задачей. Эмоциональным вознаграждением, которое в данном случае ощутит человек, будет удовлетворение, а не удовольствие от осуществления эгоистического интереса, как обычно считается.
Удовлетворение, в моем понимании, – не то же самое, что удовольствие, хотя и тесно с ним связано. Одни события обладают свойством удовлетворения, которое выше чистой их приятности; другие, напротив, хотя и очень приятны, не приносят того особого ощущения исполненности желания, которое я и называю удовлетворением.
Многие философы утверждали, что люди всегда и во всех случаях стремятся к удовольствию и что даже самые на вид альтруистические поступки нацелены на удовольствие. Это, я полагаю, ошибка. Верно, конечно, что чего бы вы ни желали, вы испытаете определенное удовольствие от достижения цели; однако, как правило, не желание проистекает из предвкушаемого удовольствия, а удовольствие из желания. В особенности это верно применительно к таким простейшим желаниям, как желания удовлетворить голод и жажду. Удовлетворение голода и жажды – удовольствие, но само желание получить пищу и питье имеет ничем не опосредованную цель и не является, если не говорить о гурманах, желанием получить удовольствие, которое доставляют эти вещи.
Моралистам свойственно призывать к тому, что называется “альтруизмом”, и изображать нравственность как стремление к самопожертвованию. Это убеждение, думается мне, проистекает из неспособности учесть всю широту диапазона возможных желаний. Лишь очень немногие заботятся исключительно о себе. Об этом наглядно свидетельствует широкое распространение страхования жизни. Естественно, каждый человек руководствуется своими собственными желаниями, каковы бы они ни были, но они совершенно не обязательно должны быть исключительно эгоистическими. Равным образом, альтруистические желания совсем не обязательно приведут к лучшим результатам, чем эгоистические. Например, художник ради благополучия своей семьи малюет халтуру; но для мира в целом, может быть, было бы лучше, если бы он творил шедевры, предоставив своей семье терпеть неудобства относительной бедности. Следует тем не менее признать, что подавляющему большинству человечества свойственна чрезмерная тяга к самоудовлетворению и что одна из задач морали состоит в уменьшении силы этой тяги»
.
2. «Счастье» или «благополучие»?
Таким образом, моральные кодексы берут свое начало в человеческих желаниях, решениях, предпочтениях, оценках. Но как бы ни была важна констатация этого обстоятельства, она мало приближает нас к построению этической системы или даже необходимой основы для оценки существующих этических правил и суждений.
Дальнейшие шаги мы предпримем в следующих главах. Но прежде чем мы перейдем к этим главам, посвященным в первую очередь проблеме средств, посмотрим, можем ли мы сформулировать удовлетворительный ответ на вопрос о целях.
Будет явно недостаточно сказать (чем довольствуются многие современные теоретики этики), что цели «плюралистичны» и абсолютно несопоставимы. Это совершенно выводит из рассмотрения одну из самых важных проблем этики. Этическая проблема, проявляющаяся в практике повседневной жизни, именно в том и состоит, какой образ действия нам «надлежит» избрать, какую конкретную «цель» среди противоречащих друг другу «целей» нам надлежит преследовать.
Теоретики этики часто утверждают, например, что хотя «счастье» может быть элементом конечной цели, «добродетель» тоже является конечной целью, и ее нельзя подвести под категорию «счастья» или полностью свести к «счастью». Но представим такую ситуацию: как поступить, если человек считает, что один образ действий с наибольшей вероятностью будет способствовать счастью (и не обязательно и не только его собственному, но и счастью других), а самым «добродетельным» будет другой образ действий? Как ему найти решение? Рациональный выбор можно сделать лишь на основе некоего общего знаменателя. Либо счастье не является конечной целью и служит лишь средством достижения другой цели, либо добродетель не является конечной целью и служит лишь средством достижения другой цели. Либо счастье нужно оценивать по его способности доставлять добродетель, либо добродетель по ее способности доставлять счастье, либо, наконец, и счастье, и добродетель нужно оценивать по их способности вести к другой, более высокой цели.
Помехой решению этой проблемы стала давняя склонность теоретиков этики резко разводить «средства» и «цели», а потом утверждать, что то, что может быть представлено как средство для какой-либо дальнейшей цели, должно считаться только средством, не может иметь никакой ценности «само по себе» или, как они выражаются, никакой «внутренней, самодостаточной» ценности.
Ниже мы приведем более обстоятельные подтверждения тому, что большинство вещей или ценностей, являющихся предметами стремлений, являются одновременно и средствами, и целями. Мы покажем, что одна вещь может быть средством для достижения ближайшей цели, которая, в свою очередь, станет средством для достижения дальнейшей цели, а эта последняя – средством для достижения еще более удаленной цели; что эти «средства-цели» должны оцениваться не просто как средства, но и как цели-в-себе, т. е. должны наделяться не только производной, или «инструментальной», ценностью, но и ценностью «квазисамостоятельной».
Сейчас, однако, мы должны сформулировать одно из наших предварительных заключений в наиболее четкой форме. В любой отдельно взятый момент мы совершаем не то, что приносит нам максимум «удовольствия» (в обычном значении этого слова), а то, что приносит максимум удовлетворения (или минимум неудовлетворения). Если мы действуем под влиянием влечения, страха, гнева или страсти, мы совершаем то, что удовлетворит нас лишь на краткое время, а долгосрочные последствия во внимание не принимаем. Если же мы действуем по здравом размышлении, мы совершаем то, что, как мы полагаем, принесет нам наибольшее удовлетворение (или наименьшее неудовлетворение) в долгосрочной перспективе. Но когда мы судим наши действия (а особенно когда судим действия других) по моральным критериям, вопрос стоит так: какие действия или правила действия в долгосрочной перспективе более всего способствуют здоровью, счастью и благополучию индивидуума, либо – если имеется конфликт интересов – какие правила поведения в долгосрочной перспективе более всего способствуют здоровью, счастью и благополучию всего общества, всего человечества?
Довольно длинное словосочетание «здоровье, счастье и благополучие» я считаю ближайшим аналогом аристотелевского понятия «эвдемония», которое, как мне представляется, содержит все три элемента. И я использовал его потому, что некоторые теоретики этики считали «счастье» (даже если оно означало счастье человечества в долгосрочной перспективе) слишком узкой или слишком низкой целью. Чтобы не вдаваться в пустые споры о словах, я буду называть конечную цель просто Благом или Благополучием. Тем самым я избегу возражений, гласящих, что эта конечная цель, это Summum Вопит, это мерило всех средств или иных целей не является инстанцией достаточно универсальной и достаточно возвышенной. У меня нет никаких серьезных «но» против использования термина «благополучие» для обозначения этой конечной цели, – хотя на самом деле меня вполне устраивает термин «счастье» как вполне самодостаточный, содержательно универсальный и вместе с тем более говорящий. Но всякий раз, как я использую слово «счастье» в качестве единственного термина, читатель может про себя добавлять «и/или Благополучие», – если думает, что такое добавление необходимо для подчеркивания всеобъемлющего характера цели или ее возвышенности.
3. Удовольствие невозможно измерить количественно
Прежде чем перейти к следующей теме, стоит рассмотреть некоторые возражения, которые выдвигаются против представленной в этой главе эвдемонистической позиции.
Одно такое возражение относится к отношению между желанием и удовольствием, – к предполагаемой ошибочной инверсии, упомянутой мною в начале главы. Я думаю, что люди, придающие повышенное значение этой так называемой ошибке, сами грешат подменой смыслов. Свою позицию они нередко формулируют так: «Когда я голоден, я хочу пищи, а не удовольствия». Но корректность этого высказывания подрывается двусмысленностью термина «удовольствие». Если мы заменим «удовольствие» «удовлетворением», мы получим следующую казуистическую формулировку: «Когда я голоден, я желаю пищи, а не удовлетворения моего желания». Таким образом, мы здесь имеем дело не с противопоставлением двух разных вещей, а с двумя разными способами выражения одного и того же смысла. Высказывание «когда я голоден, я хочу пищи» конкретно и точно. Высказывание «я хочу удовлетворения моих желаний» имеет общий и абстрактный характер. Но между ними нет противоречия. Пища в данном случае – просто конкретное средство удовлетворения конкретного желания.
Тем не менее со времен епископа Батлера этот вопрос остается предметом острого спора. И гедонисты, и антигедонисты склонны забывать, что слово «удовольствие», как и слово «удовлетворение», – это просто абстракция. Удовольствие или удовлетворение не существуют отдельно от конкретного удовольствия или удовлетворения. «Удовольствие» невозможно выделить или дистиллировать в виде некой однородной субстанции из конкретных удовольствий или источников удовольствия.
Равным образом, удовольствие невозможно измерить количественно. Попытка Бентама сделать это была изобретательной, но ошибочной. Как, например, соизмерить интенсивность одного удовольствия с продолжительностью другого? Или интенсивность «того же самого» удовольствия с его продолжительностью? Какое именно снижение интенсивности соразмерно какому именно повышению продолжительности? Сказать, что каждый человек в каждый данный момент решает это сам, значит сказать, что все зависит от его личного предпочтения, а не от объективного «количества» удовольствия.
Удовольствия и удовлетворения можно сопоставлять по принципу больше или меньше, но количественному измерению они не подлежат. Мы можем, таким образом, сказать, что они сопоставимы, но не можем на этом основании заключить, что они в каком-либо отношении соизмеримы. Мы можем, например, сказать, что сегодня вечером нам больше хочется пойти на симфонический концерт, чем играть в бридж, и это будет означать, что концерт сегодня доставит нам больше удовольствия, чем партия в бридж. Но мы не можем с полной ответственностью заявить, что пойти на концерт нам хочется в 3,72 раза больше, чем играть в бридж (или что концерт доставит нам в 3,72 раза больше удовольствия).
Поэтому даже тогда, когда мы говорим, что человек «стремится предельно повысить свое удовлетворение», мы должны непременно отдавать себе отчет в том, что «предельное увеличение» – это метафора. Это условная форма высказывания «предпринимать в каждом случае действие, которое, по всей видимости, обещает наиболее удовлетворительные результаты». Поэтому в данном контексте мы не можем на законном основании использовать термин «предельное увеличение» в том строгом значении, в каком он используется в математике и обозначает предельно возможную сумму. Ни удовлетворения, ни удовольствия измерить невозможно. Они лишь сопоставимы по принципу больше или меньше. Иными словами, они сравнимы по порядку предпочтения, а не по количественным характеристикам. Мы можем говорить о нашем первом, втором, третьем выборе. Мы можем сказать, что ожидаем больше удовлетворения (или удовольствия) от действия А, чем от действия В, но никогда не можем точно сказать, насколько больше
.
4. Сократ и устрица
При сравнении удовольствий или удовлетворений правомерно, таким образом, говорить, что одно больше или меньше другого, но совершенно ошибочно утверждать вместе с Джоном Стюартом Миллем, что оно «выше» или «ниже» другого. В этом отношении Бентам мыслил гораздо логичнее: «При равном количестве удовольствия пустые забавы ничуть не хуже наслаждения поэзией» («Quantity of pleasure being equal, pushpin is as good as poetry»)
. Пытаясь избежать этого вывода и утверждая, что удовольствия следует измерять «не только количеством, но и качеством»
, Милль фактически отказался считать само удовольствие регулятивным правилом поведения и обратился к другому стандарту, не имевшему четкой формулировки. Он подразумевал, что мы ценим определенные состояния сознания за что-то иное, нежели их приятность.
Если мы откажемся считать стандартом «удовольствие» и заменим его «удовлетворением», станет ясно, что если приносимое удовольствием удовлетворение и есть стандарт поведения и Джон Джонс получает больше удовлетворения от игры в пинг-понг, чем от чтения поэзии, тогда он играет в пинг-понг вполне оправданно. Можно, если угодно, сказать (вновь вместе с Миллем), что он, вероятно, предпочел бы поэзию, если бы имел «опыт обоих занятий». Но это далеко не очевидно. Это зависит от многого: что за человек Джонс, каковы его вкусы, умственные и физические способности, каково настроение в данный момент. Утверждать, что он должен читать поэзию, а не играть в пинг-понг (даже если игра доставляет ему интенсивное удовольствие, а чтение навевает скуку или раздражает) лишь потому, что в противном случае он будет достоин вашего презрения, – утверждать подобное значит руководствоваться интеллектуальным снобизмом, а не моральными соображениями.
Милль внес в этику большую понятийную путаницу, когда заявил: «Лучше быть довольным человеком, чем довольной свиньей, – недовольным Сократом, чем довольным дураком. Дурак и свинья думают об этом иначе единственно потому, что для них открыта только одна сторона вопроса, тогда как другим открыты для сравнения обе стороны»
.
Сомнительно, однако, что оппонентам по сравнению известны обе стороны. Человек, руководствующийся разумом, никогда не был в шкуре свиньи; он не представляет, каковы ощущения свиньи и что чувствовал бы сам, будь он свиньей. В этом последнем случае он имел бы предпочтения свиньи, какими бы они ни оказались.