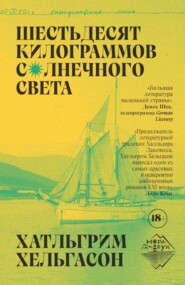
Полная версия:
Шестьдесят килограммов солнечного света

Хатльгрим Хельгасон
Шестьдесят килограммов солнечного света
© Hallgrímur Helgason, 2018 Title of the original Icelandic edition: Sextíu kíló af sólskini
© Ольга Маркелова, перевод на русский язык, 2023
© ИД «Городец», издание на русском языке, оформление, 2023

Книга 1
Из сугроба ты вышел
Глава 1
Адам на ледяной пустоши
Вначале страница была пуста: просто чистый белый лист бумаги. Нигде – ни черной былинки: ни точки, ни запятой. Фьорд был одной слепой снежной целиной: от водопада в глубине долины до самого берега моря, и непонятно было, что там под снегом: земля или вода. Пороша стерла все следы пребывания человека, и фьорд лежал под северным небом такой же нетронутый, как в тот день, когда его открыли – а это было 999 лет тому назад.
И вот на эту чистую страницу выходит герой: ковыляет человек, притаскивается изможденный дух с заиндевевшей бородой, в пропотевшем свитере – осунувшийся мужчина, который просто не может носить другое имя, кроме имени Эйлив [1] Гвюдмюндссон. Он останавливается на горном перевале и смотрит на свой родной фьорд, который больше не фьорд, а белая страница – чистая, пока не началась история. И вот он входит на нее и кладет истории начало – прокладывает следы, с каждым шагом чуть ли не по колено проваливаясь в снег своими шерстяными носками и башмаками из акульей кожи. Мы слышим его дыхание – пыхтение, он запыхался от ходьбы, но сейчас его вдобавок еще и бросило в жар; он ничего не может понять: в этом месте у него стоял хутор, где были и домочадцы, и скотина – но сейчас он не видит своего жилища, – а ведь буран, бушевавший целых три дня кряду, уже улегся, и небо подобрало свой снежный шлейф.
Эйлив Гвюдмюндссон спешит спуститься с перевала, разбрызгивая вокруг себя сухой снежок, словно льдиноборóдая паровая машина. И мы следуем за ним – взмокшим, зябконогим, несущим мешок рождественской пшеничной муки – и слышим его пыхтение. Его мы слышим даже лучше, чем он сам, ведь мы – книголюбы – воспринимаем вещи с удобной дистанции, окруженные той самой идеальной книжной тишиной, которая обычно царит вокруг пододеяльников, и с наслаждением сопереживаем чужим страданиям при свете лампы на ночном столике.
По мере спуска с горы пороша превращается в сугробы, сугробы в снега, а снега – в наст. Сейчас пешеход проваливается лишь по щиколотку, приближаясь к тому, что он считал своей жизнью, своим жильем, которое на картах именовалось Перстовая хижина, а теперь его больше нет, и само его название тоже завалило снегом. Солнечный утес – и тот исчез, а ведь он – самая надежная примета, он всегда стоит частично незаметенным, словно неколебимый заповедный ориентир, словно щит для объявлений о сегодняшнем и завтрашнем дне. А теперь – не за что ухватиться в жизни, держалки никакой не стало, и вот хуторянин стоит там, где раньше был его дом, выпускает из себя облако пара и глядит из этой прозрачной дымки большими черными зрачками – единственными темными точками в этой белизне: они катаются по дну долины, словно две горошины по тазу.
«Что за черт, я прямо как «Адам среди снегов» в стихах нашего Лауси!» – подумал Эйлив Гвюдмюндссон и машинально начал бормотать знаменитые строчки из «Книги Лауси», в которой этот плотник-язычник, по полному имени – Сигюрлаус с хутора Нижний Обвал, привязал к родным местам различные сюжеты из Пятикнижия Моисея, чтобы скоротать зиму, когда ему пришлось сидеть без досок.
Среди снегов Адам стоялВ костюме Евы.А в его жилах снег игралСвои напевы.Отчаяние Эйлива было так велико, что ему даже пришлось снять свою шапку с наушниками. Посредине его заледеневшей бороды протаяла широкая дорожка. Она пролегала от носа до рта, а к подбородку исчезала; в той местности это называлось «оттепель в носу». Его космы спускались вдоль крупных ушей мокрыми от пота изгибами, а на макушке поблескивала сорокалетняя плешь. Он шагал взад-вперед по тому месту, где должен был стоять его хутор – где по всем приметам просто обязан был стоять его собственный хутор, который сейчас вымарали со всех карт, – разевая пасть как собака, которая чует запах, но не находит куска. Но в конце концов он остановился и стал смотреть в сторону устья фьорда. Церковь в Сугробной косе – и та исчезла из виду, а ведь она была с колокольней и выкрашена в черный цвет. Корабли Кристмюнда из Лощины, выходившие на промысел акулы – и те были невидимы, а ведь эти смоленые суда никогда не были добычей снежной слепоты, они всегда вздымали свою парусоподвязанную высокомачтовость у берега близ самого крупного хутора в Сегюльфьорде. Неужели так намело – или это разом обрушились целых четырнадцать лавин? Да еще утром самогó Рождественского сочельника?
Глава 2
3 кг пшеничной муки
Хуторянин Эйлив из Перстовой хижины был в отъезде десять дней, из них четыре – в дороге домой, а ведь в иной погожий день она заняла бы всего лишь пять часов пешком. Целых три раза он пытался переправиться через перевал Подкову, чтобы попасть из Хейдинсфьорда в Сегюльфьорд, но его дважды отгоняли обратно к хутору Угор супруги Буран и Вьюга. Во вторую из этих попыток он был не в состоянии шевельнуть рукой: ветер так бушевал, что даже не давал ему поднять ладонь, чтоб заслонить голову. Настал день святого Торлаука[2], и Эйлив вознамерился во что бы то ни стало добраться домой до вечера. Дома его ждали жена и дети, – а если у них не будет пшеничной муки, то какое уж Рождество! Но вот – хуторянин полдня провел в борьбе с ветром, во время которой Буран беспрестанно пулял по нему из своего дробовика (дробь с юга градом сыпалась ему на левую щеку). Наконец человек сдался и повернул вниз, в долину, но тогда и Буран тоже повернул и задул с востока: Эйливу пришлось ползти вниз по склону на четвереньках, а пять часов спустя он еле-еле добрался до дома супругов Крёйеров на хуторе Угор.
Его ввели в коридор землянки на хуторе[3], словно полуоттаявшего выходца с того света в поскрипывающем панцире, а затем и в горницу, – а ему показалось, что та сияет алым, почудилось, что свет жирника имеет кроваво-красный оттенок, напоминающий дома веселья в Южных морях, о которых однажды читал ему Лауси с хутора Обвал в книжке «В сторону моря».
– А… уже Рождество? – вымучил Эйлив сквозь искусанные стужей губы и почувствовал страх: он подвел своих близких! – И, сказав таковы слова, приблизился он к чернокаменному зеркалишку на столбе и узрел в нем облик свой: глаза налиты кровью до самых зрачков, а в середине зрачка трепещет полная луна на мудреном небе, – и ясно увидел он, что игольное ушко его души омыто кровавым светом луны, ибо пред взором его было красно. Тут сбили с него большую часть сугробов, а потом отвели из горницы по коридору в кухню, где дали постоять над очагом, пока двое человек счищали с него снег. И напустился на лед огонь, и тогда восплакало и возрыдало все его тело.
И все это – ради трех килограммов муки, и пирогов, и хлеба!
Глава 3
Киоск с окошком
В сегюльфьордском торговом кооперативе, размещавшемся в углу складского помещения в Сугробной косе, после целого месяца льдов на море закончились товары, зато прошел слух, что в Оудальсфьорде стоит торговое судно. Из устья фьорда на восток параллельно берегу тянулась узенькая полоска открытой воды среди льдов, и по ней пробиралась шхуна, словно усатый кит, увенчанный парусами и длинным бушпритом. “Fanden splitte mine bramsejl!” [4] – раздавались мысли на этом судне, – кто-то ведь должен возить им муку, этой бедноте колченогой, кормить-то этот проклятый народ надо, но не спрашивайте, почему – и почему именно мне? А в тех товарах, которые они предлагают взамен, ценности немного: топленый акулий пот, палки запекшейся крови[5] да высохшая от старости треска…
Такими были датские мысли, правившие этим торговым судном, – а датчане уже много веков владычествовали над этим народом, и в этом союзе двух стран терпение обеих истощилось до предела, ведь из всех колоний мира Исландию оказалось труднее всего угнетать. Господ уже давно раздражали все эти расходы, и в Исландии все датчане ходили угрюмые.
Так что датчанин – капитан корабля – не желал, чтоб по его палубе шлялись обитатели нищих исландских хижин, и отпускал товары через круглое окошко в корме. Это был, можно сказать, первый в истории Исландии киоск с окошком. Покупатели подгребали на лодках к борту корабля, выкрикивали в дырку название и количество из своих больших и впечатляющих списков покупок, а затем бросали туда свой мешок. Жутко долгое время спустя он возвращался назад в руке датчанина, а полномочный представитель народа-покупателя, исландский купец, приехавший из другого полушария, столицы Четверти[6], самого Фагюрэйри, – клал на датскую ладонь монету. Затем он записывал в книгу, сколько тому или иному голодранцу отпущено в кредит. Такая уж тогда была экономика. В этих трех фьордах денежной купюры не видели с тех давних пор, как в церкви в Сугробной косе однажды выступал один чудной странствующий пастор. В доказательство существования дьявола он размахивал пылающей «пятикопытной» купюрой, утверждая, что она-де служит платежным средством в преисподней. Торговцу отдавали в уплату кожи и рыбий жир, мясо и овечьи головы и брали у него под запись бреннивин[7], сахар и башмаки.
Торговцем обычно бывал тот, кто в поселке носил самое красивое имя (Сигурд Скьёт, Элиберт Хансен…), лучше всех одевался и разговаривал по-датски. Он должен был обладать окладистой бородой, солидным видом и радушием, но при этом крайне неохотно отпускать товары, особенно хмельное. Последняя черта считалась специфически исландской: исландские торговцы – единственные в мире, кому было жаль продавать свой товар, каждая «продажа» была для них разочарованием, каждого «клиента», которого угораздило притащиться к ним в лавку, они встречали вздохом. Из-за бескупюрной экономики и удаленности от мировых портов торговец смотрел на склад товаров как на собственное имущество, нажитое тяжелым трудом – и поэтому расставался с ним неохотно. Было очевидно, что обтянутые кожей деревянные башмаки, сработанные каким-нибудь искусником в Гамбурге, а может, в Хеллерупе[8], и выставленные на полке в исландском фьорде, проделали сюда такой же далекий путь, как китайский шелк – до Копенгагена. Так что торговцу оставалось только одно: заломить цену за этот товар, надеясь, что тогда его никто не купит. Так сложилась особенность исландской торговли, сохранившаяся и до наших дней: продать как можно меньше, зато как можно дороже. Некоторые торговцы доходили даже до того, что сами пользовались товаром, пока он не был продан, например, подтяжками и сервизами. На таких вещах это незаметно, и их всегда можно заново выставить в лавке. Однако на торговцев минувших веков без конца наседал нуждающийся народ, изнуренный голодом и рабством, поэтому их работа была трудной и неблагодарной, и не всем удавалось одинаково хорошо беречь свой склад.
А тот благородный господин, о котором речь пойдет в нашей повести, – красивоусый Эдвальд Копп – как раз отъехал непривычно далеко от дома, от родных прилавка и кассы в Фагюрэйри, и по этой причине суетился и нервничал. Его родной Эйрарфьорд, как и все другие фьорды, затянуло льдом (мороз чинов не спрашивает), и к кораблю нигде нельзя было подплыть – только в этом невзрачном Оудальсфьорде, где жили разве что одни тюлени. Торговцу пришлось трое суток вместо шляпы надевать на голову шапку, спать под крышами землянок, переправляться на коне вплавь через целые ущелья, заполненные снегом, и даже перейти одну горную пустошь с конем в поводу. Но его толстое брюхо при этом не убралось (после трех бесплатных обедов, где ему подали варено-копченую баранину со скиром[9]), и у берега он выпятил живот, так что с моря было видно, что за человек едет: det var en mand med maend! [10]
Да уж, этот народ не весь из сугроба выполз, и здесь встречались люди, накопившие жирок!
Затем он извлек из футляра цилиндр и попросил переправить себя на корабль стоя, так что позади него красиво развевались полы жакета. Спустя один полдень он вернулся назад, слегка подшофе, и отобрал с собой в корабельную шлюпку троих хуторян в одежде овечьих цветов: пусть, мол, сами подают и забирают свои мешки через датский иллюминатор, он не желает о них мараться! Это была вынужденная мера: киоск с окошком предназначался для жителей ближайшей округи, однако жажда хлеба привела к нему множество хуторян из других, совсем уж дальних краев, даже тех, кто не был записан в книгах у Коппа, но надеялся, что торговец войдет в их положение. И хотя эпоха торговой монополии[11] в Исландии уже давным-давно закончилась, у торговцев все еще были «свои» хуторяне, а у хуторян – «свои» торговцы.
Глава 4
99 форелей
Эйлив пришел поздно: жидковатый свет в небесах уже угасал, большинство хуторян разошлось по домам, назревал большой буран. Но одна возможность съездить в киоск все же еще оставалась: однорукий хуторянин с Двойной скалы в Оудальсфьорде со своей неизменной буранной усмешкой уселся в лодку и без дела сидел там на скамье напротив гребца-датчанина, безбородого мальчишки с лихорадочно-красным лицом; из почтения к Коппу и датской короне он ухитрился одной рукой стащить с себя шапчонку и так и сидел в лодке с непокрытой головой, несмотря на холод. А торговец все еще стоял на взморье, когда к нему вдруг принесло такую важную птицу с мешком:
– Перстовая? Нет, тебе я кредита не давал!
– Нет, мы – сегюльфьордские, всегда кредитуемся в лавке в Сугробной косе, у Сигюрда.
– А здесь что ты забыл? В моем omrĺde [12], на моем корабле…
– Ну это… У него, родимого, зерно закончилось. На море же льды.
– Что это за непутевый торговец, у которого склады пустеют! И что же это за хозяйство?
– Да, Сигюрд говорит, ему на мешках плохо спится.
– А! Вот как? А что ты мне дашь? В Сегюльфьорде, поди, денег не печатают?
– Я тут подумал… ну, тринадцать форелей за три килограмма пшеничной муки. Понимаете, Рождество… и жена…
– Ах вот как! Рождество и жена? Так-так! И где же твои форели?
– У меня в озере.
– Вот как? А почему ты их не принес?
– Ну там же все заледенело. А лед-то сейчас толстый.
– Вот как? И когда же мне их ждать?
– К весне. Могу сдать их весной.
– Тринадцать непойманных форелей за три килограмма муки?! А я скажу: тридцать три форели за каждый килограмм!
Торговец слегка запинался в конце фраз, и Эйлив, как и все вокруг, понимал, что это действует капитанский ром. Чуть выше на взморье стоял конюх торговца с лошадьми, собакой и двумя непонятными человечишками; они слушали этот разговор, а чуть поодаль двое хуторян корячились над свертками новоприобретенной тяжести и собирались вместе со своими собачками пуститься в путь домой.
«Девяносто… форелей?» – повторил Эйлив, чувствуя, как его сердцу становится жарко, и оно разом выпускает в кровь семнадцать разных дум. Что можно на такое ответить?
– Ja, ni og halvfems ørreder! [13]
Эйлив ненадолго взглянул на пьяное лицо торговца: этот маленький носишко, крупные щеки, эти навощенные усы, эти глубоко посаженные глазки под твердой-твердой шляпой. И вдруг он представил себе, как девяносто девять форелей воспаряют из Перстового озера погожим весенним вечером, плывут по воздуху вглубь фьорда, через горы, долго-долго летят по небу, а потом вереницей прилетают в Фагюрэйри, к деревянному дому Коппа, выстроенному в норвежском стиле, засасываются в дымовую трубу, вылетают из кухонной плиты и мчатся прямо по коридору (предводитель рыбьего косяка сразу найдет, где у них столовая), потом одна за одной прошмыгивают к концу стола (под люстрой) туда, где сидит господин Копп, осалфетившись и разинув рот, – в который эти рыбы и впрыгивают поочередно на большой скорости. А торговец девяносто девять раз глотает.
Вот что он увидел. Но ничего этого так и не высказал. Они просто стояли там друг напротив друга: долговязый хуторянин-изнуренка и шикарный толстозад. У одного из носа и рта струился пар дыхания – человеческая машина дымила, – а от другого ничего не струилось, судя по всему, его вырезали из цельного куска дерева. И как этому маленькому деревянному человечку удавалось смотреть на такого верзилу сверху вниз? Его высокий цилиндр доходил Эйливу лишь до глаз. При таком положении головы торговца хуторянин видел круглую площадку – верх цилиндра, больше всего напоминавший кусочек пленительного рая: хотя с небес порой летели снежинки, на сию благородную кровлю они не ложились. Но вдруг в лице Коппа что-то начало подрягивать, и через пару снежинок он повернул голову в сторону моря, из его рта вылетела струя рвоты и, описав длинную величественную дугу, со смачным бульканьем коснулась воды.
Эйлив бросил взгляд на лодку и заметил, что человеком, посреди его разговора с Коппом шагнувшим в шлюпку и притулившимся рядом с одноруким гримасником, был не кто иной как работник Кристмюнда из Лощины по имени Якоб – с мощными челюстями и бородой-воротником. Почему подняться на корабль дали ему, а не Эйливу? Они же оба из Сегюльфьорда, то есть из другого торгового округа! И вот он увидел, как этот Якоб очень изящно кивнул ему, и это движение выражало все разом: 1) Ну что, приятель, зерно кончилось? Вечно у тебя одно и то же! 2) Ты и впрямь считаешь, что для тебя и для нас, лощинцев, порядки одинаковые? 3) Да нет, Копп, конечно, – попросту сбрендивший сквалыга, он и пить-то не умеет, вон, смотри: роскошный обед, который съел на корабле, таким жалким образом выблевал!
Торговец все еще соплечавкал на взморье, согнувшись в три погибели. Цилиндр свалился с него. Эйлив видел, как ветер гонял его по заснеженной приливной полосе: черное на белом, как блестящая гроздь из роскошного сада, которая упала в убогий заледеневший мир и теперь перекатывалась там. Тут он увидел свой шанс, сделал нужные шаги и подобрал цилиндр, пока тот не улетел к конюху.
Обитатель землянки подобрал шляпу торговца и стоял с ней на взморье, словно робкая девушка с букетом цветов, а маленький большой человек тем временем завершал свое дело. Наконец Копп выкашлял последние капли слюны, поднялся. Огляделся – голова словно закатное солнце над поблескивающей серой гладью моря: «Где моя шляпа? Где моя шлюпка? Где я вообще нахожусь?» И торговец побрел обратно, ступая своими французскими кожаными сапогами по щиколотку в морскую пену, и от его прежнего запала не осталось и следа, казалось, его одолела усталость: каких же, черт побери, хлопот стоит попытка представить этих виртуозов голода иностранцам!
Копп без слов подошел к своему цилиндру, словно мать к ребенку, и взял его из рук Эйлива, затем вновь повернулся к морю и подозвал шлюпку. Но пока гребец-датчанин отчаливал, торговец развернулся и что-то крикнул тому долговязому – нечто, что могло означать «Ну подойди же!» или «Проваливай к черту!». В представлении хуторянина это значило одно и то же, и он побрел к воде. И пока он стоял там перед верткой лодкой с тремя сидящими людьми и одним стоящим торговцем, с его уст сорвался таковой вопрос:
– А что насчет цены за килограмм? Тридцать три форели за килограмм мне нипочем не заплатить!
– Да ну! Пошли! Как-нибудь устроим… – крикнул ему Копп заплетающимся языком.
Цилиндроносец, кажется, изблевал из себя почти всю свою надменность, и сейчас в его глазах светилось редкостное и тем более удивительное понимание. Значит, во всем этом убожестве все же крылась какая ни есть удача? Этим декабрьским днем у Ледовитого океана всем управляла какая-то милостивая рука? Рука Всевышнего? Нет, вряд ли, подумал Эйлив, в лучшем случае отсутствующая рука однорукого хуторянина с Двойной скалы, который ждал в лодке, окруженный облаком собственного дыхания. Эйлив выделил себе миг на размышления об этом вопросе: на его вкус, все было весьма непонятно. Как и лодка, и тот самый добрый цилиндр, цена за килограмм плясала перед ним на волнах вечно беспокойного моря, а потом он вспомнил, что его ждет Рождество дома, лица доброй Гвюдни и детей, – и шагнул в ту ледяную бесформенность, которой зачастую отличается торговля в Исландии, перелез через борт и нашел себе место на передней скамье, позади лихорадочно-красного гребца.
Он увидел, как цилиндр над плечами датчанина склонился на корму, позади работника Якоба, с усталой ухмылкой расправлявшего свою бороду-воротник. Рядом с ним по-прежнему сидел однорукий со своей извечной буранной усмешкой. Но сейчас она была как раз к месту: началась нешуточная пурга.
Разве это что-нибудь сулит, кроме верной погибели? – думал Эйлив. Неужели он действительно собирается поверить словам пьяного торговца? Но в следующие мгновения он увидел перед собой лишь громадные руки управителя мира, которые появились из вселенской тьмы и оттолкнули датскую шлюпку от берега. Так уж устроен мир, так он вертелся, одно сменялось другим: кто в один миг сел в лодку, в следующий уже будет в море. На глазах стемнело, туча над морем спустилась на тон ниже, и соответственно этому буря разбушевалась еще сильнее. Берег ответил порывом ветра, с него длинной дугой поднялась метель, заплетаясь в воздухе, словно плеть, которой погоняют зверя непогоды, крича в его длинные повислые уши: «Трогай!»
Утомленный делегат в ту ночь выспался в датском корабле, а виртуозы голода отправились восвояси, домой, к трудам, исчезли в тумане, словно лошади с обернутыми кожей копытами.
И вот, сейчас Эйлив стоял здесь, на широком снежном покрывале, обливаясь по́том от страха, и думал: Три килограмма муки – за это все? Три килограмма муки – за мое жилище, жену, детей, корову? Три килограмма муки – за всю мою жизнь?!
И тут он услышал у себя под ногами мычание. Он вдруг услышал мычание под снегом.
Глава 5
Ромул в снежной обители
– Му-у! Му-у!
Эйлив начал копать в том месте, откуда доносился звук. Корова продолжала мычать. Звучало это как труба из потустороннего мира. Из нижнего. Он не мог ничего с этим поделать: он представлял себе бурого пятнистого человека, дующего в золотую трубу длиной с косовище, заканчивающуюся внизу изгибом, напоминающим лезвие косы.
О, Хельга, моя Хельга! Где же ты, родимая?
Он выкопал в снегу две дыры, но ему все время казалось, что корова Хельга где-то сзади, и он принимался рыть в новом месте. Может, это «му» было только у него в голове? Да, конечно, корова запросто могла быть у него в голове, конечно, туда вмещалась целая корова, целый хлев, этот фьорд, эти горы, да и весь белый свет. Конечно, всему этому было место в голове у одного человека.
Так думал Эйлив.
Он часто так думал, даже в решающие моменты – о какой-нибудь несусветной ерунде, не относящейся к делу, и это нередко создавало ему трудности. Например, когда сислюманн[14] давным-давно допрашивал его насчет того куска дельфинятины, он сидел, разместив свои ноги-ходули, обносоченные до колен, напротив самой сислюманновой холеной бороды – и вдруг начал думать о яйцах. О большом множестве яиц. Перед его внутренним взором на заднем плане тянулись длинными рядами тысячи яиц, и его мысли дали ему чайную ложечку и велели ударять каждое яйцо по темечку и подсчитывать, сколько он стукнул. Задание было крайне мудреное – а тут еще ему надо было одновременно отвечать на вопросы сислюманна.
– Что вы делали на берегу в вышеозначенный вечер?
– Яйца бил.
– Простите, как это понимать?
– Да там поднимать не надо: ложкой стукнешь – и все.
Эти яйца надежно обеспечили ему два месяца тюремного заключения в столице. Честно признаться, он ожидал его с радостью: тогда он наконец смог бы уехать из этого вилкообразного трехфьордия. Он был записан батраком в Лощине, а значит, был прикреплен к сельской местности так же прочно, как камни в ограде. Для такого человека тюремное заключение с сопутствующим плаванием на юг, в столицу, было почти как кругосветное путешествие. Однако из-за льдов на море в ту зиму приговор не удалось полностью привести в исполнение, а в следующую зиму за ним не прислали. Исландское правосудие славилось подобной медлительностью, и часто от преступления до допроса проходили годы, а от допроса до приговора и от приговора до тюремного заключения – еще дольше. Иным приходилось в старости отбывать наказание за преступления, совершенные в молодом возрасте. Но большинство простых людей относились к этому спокойно; ведь они уже давно пришли к выводу: что сидеть в тюрьме, что ходить в батраках – разницы почти никакой. Степень несвободы была схожей, хотя работникам дозволялось раз в год переходить к другому хозяину. Зато в темнице, как говорили, трудиться не требовалось.
Эйлив издавна принадлежал к этому сословию, вмещавшему большинство жителей страны и в чиновничьих бумагах именовавшемуся «работными людьми». Поскольку все пригодные земли в Исландии уже были заняты, и вся страна, от мысов до долин в глубине острова, «запродана», работникам вменялось наниматься к какому-нибудь фермеру; этот вид кабалы назывался батрачество. Батраки подчинялись строгому домострою. Им было запрещено вступать в брак и заводить детей. Это исландское рабство, существовавшее веками, недавно было упразднено законом. Но с законами дело обстояло так же, как и с правосудием: чтоб добраться до севера страны, им могли потребоваться десятилетия. Исландских рабов все же не оставляли совсем без жалованья, так что Эйливу за двадцать лет удалось накопить на трех ягнят и одну крышу над головой. Он выстроил себе землянку и стал мелким хуторянином – владельцем хижины с женой, детьми и коровой – где бы они все сейчас ни были. Но приговор все еще висел над ним – видимо, в судебной системе про него забыли. И сам он умудрялся забывать про него на долгое время, хотя, если ему случалось искать овец в горах в лютую непогоду, он порой согревался мыслью о том, что когда-нибудь отправится на юг в уютную тюрьму.



