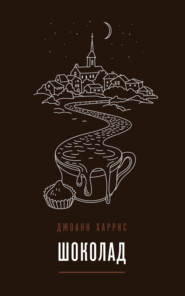
Полная версия:
Шоколад
На меня многозначительно поглядывает медсестра. Она считает, я тебя утомляю. И как только ты их выносишь? Их громкие голоса, воспитательские замашки? «А теперь нам пора отдыхать». Ее игривость раздражает, режет слух. Она желает добра, говорят твои глаза. «Не сердись на них, они знают, что делают». А вот я не добрый. Я пришел сюда не тебя утешать – самому утешиться. И все же мне хочется верить, что мои визиты радуют тебя, вносят свежую струю в твою жизнь, что превратилась в вялое, бесцветное прозябание. По вечерам телевизор, час в день, смена положения пять раз в день, кормление через трубочку. О тебе говорят как о неодушевленном предмете: «Думаешь, он нас слышит? Понимает что-нибудь?» Твое мнение никому не интересно, тебя даже не спрашивают… Ты живешь в полной изоляции, но по-прежнему чувствуешь, думаешь… Вот он, истинный ад, голый ужас, без наносной цветистости средневековых представлений. Полнейшая изоляция. И все же я обращаюсь к тебе: научи, как выйти к людям. Научи надежде.
4
14 февраля, пятница День святого Валентина
Мужчину с собакой зовут Гийом. Вчера он помог мне занести в дом багаж, а сегодня утром стал моим первым посетителем. Пришел вместе со своим псом Чарли. Поприветствовал с застенчивой учтивостью, почти по-рыцарски.
– Мило у вас здесь, – сказал он, оглядевшись. – Наверное, всю ночь трудились.
Я рассмеялась.
– Просто чудесное превращение, – добавил Гийом. – Не знаю почему, но я думал, вы собираетесь открыть у нас еще одну пекарню.
– Чтобы пустить по миру беднягу мсье Пуату? С его-то больной поясницей и несчастной женой-инвалидом, которая и по ночам не спит? Уж он был бы мне благодарен по гроб жизни.
Гийом нагнулся, поправляя на Чарли ошейник, но я заметила веселый блеск в его глазах.
– Значит, вы уже познакомились?
– Да. Я дала ему рецепт ячменного отвара от бессонницы.
– Если поможет, он на всю жизнь станет вам добрым другом.
– Поможет, – заверила я. Потом сунула руку под прилавок и вытащила розовую коробочку с серебряным бантиком. – Держите. Это вам. Моему первому посетителю.
Гийом, кажется, чуточку перепугался.
– Ну что вы, мадам, я…
– Зовите меня Вианн. И я не приму отказа. – Я сунула коробочку ему в руки. – Вам понравится. Это ваши любимые.
– Откуда вы знаете? – спросил он с улыбкой, осторожно убирая подарок в карман плаща.
– Да вижу, – лукаво сказала я. – Я про всех знаю, кто что любит. Это вам и нужно, поверьте мне.
Вывеска была готова только к полудню. Жорж Клермон, без конца извиняясь за опоздание, собственноручно ее прибивал. Красные ставни изумительно смотрелись на фоне свежей побелки, и Нарсисс, беззлобно сетуя на поздние заморозки, рассадил в моих горшках герань из своей теплицы. Я вручила обоим по нарядной коробочке к Дню святого Валентина и отослала – озадаченных, но счастливых. После толком никто не заходил, не считая нескольких ребятишек. Так оно обычно и бывает с новыми лавками в маленьких городках: действует строгий этикет, и местные сдержанны, якобы равнодушны, хотя в душе сгорают от любопытства. Заглянула пожилая женщина в черном платье – традиционном одеянии местных вдов. Мужчина с красно-коричневым лицом купил три одинаковые коробочки, даже не поинтересовавшись, что в них лежит. Потом несколько часов никого. Как я и ожидала. Нужно время, чтобы привыкнуть к новому. Кое-кто бросал пристальные взгляды на витрину, однако переступить порог не осмелился никто. За напускным равнодушием я улавливала смятение, шепотки, колыхание штор, подготовку к решительному шагу. Наконец они пришли. Сразу целой компанией. Семь-восемь женщин, среди них Каролина Клермон – жена Жоржа Клермона, смастерившего мне вывеску. Девятая, шедшая в хвосте группы, осталась на улице. Я узнала в ней женщину в клетчатом плаще. Она стояла у витрины, почти касаясь лицом стекла.
Посетительницы жадно рассматривают все, хихикают, мнутся, восторгаются своей проделкой, будто шкодливые школьницы.
– И вы все это сама делаете? – спрашивает Сесиль, хозяйка аптеки на главной улице.
– Надо бы воздержаться, – говорит Каролина, пухлая блондинка в пальто с меховым воротником. – Как-никак Великий пост.
– Я никому не скажу, – обещаю я. Потом, глянув на женщину в клетчатом плаще, которая так и стоит у витрины: – А ваша приятельница почему не заходит?
– Она вовсе не с нами, – отвечает Жолин Дру, женщина с заостренными чертами лица; она преподает в местной школе. – Это Жозефина Мускат, – добавляет она, мельком глянув на квадратное лицо за стеклом. В голосе сквозит презрительная жалость. – Вряд ли она войдет.
Жозефина, будто услышав, чуть покраснела и нагнула голову, зарывшись подбородком в воротник. Она как-то странно прижимала руку к животу, будто оборонялась. Уголки рта навечно опущены; губы шевелились, нашептывая то ли молитву, то ли проклятия.
Я стала обслуживать женщин – белая коробочка, золотая ленточка, два бумажных рожка, розочка, розовый бантик с сердечком, – а они ахали и смеялись. Жозефина Мускат у витрины что-то бормотала, раскачиваясь и прижимая к животу неуклюжие кулаки. Когда я занялась последней покупательницей, Жозефина вызывающе вскинула голову и вошла. Последний заказ оказался большим и сложным. Мадам желалавот толькоэто, да еще то, то, то и то, да в круглой коробочке, да с ленточками и цветочками, и с золотыми сердечками, и с визитной карточкой, только без надписи – тут остальные дамы в восторге шаловливо закатили глазки – хи-хи-хи-хи! – так что я едва не проглядела самое занимательное. Крупные руки Жозефины удивительно проворны – огрубелые, красные руки, закаленные работой по дому. Одна прижата к животу, вторая молниеносно взлетает, словно оружие в руке опытного стрелка, и серебряный пакетик с розочкой – стоимостью в 10 франков – перемещается с полки в карман ее плаща.
Отличная работа.
Я не подаю виду, что заметила кражу, пока дамы со свертками не покинули магазин. Жозефина, теперь одна перед прилавком, с притворным интересом рассматривает товар. Осторожно крутит в нервных пальцах одну коробочку, вторую. Я закрываю глаза. Мысли ее путаные, тревожные. В моем воображении мелькает стремительная череда образов: дым, горсть блестящих безделушек, окровавленный палец. За всем этим кроется трепетный страх.
– Мадам Мускат, помочь вам что-нибудь выбрать? – Голос у меня спокойный, любезный. – Или просто посмотреть зашли?
Она бормочет что-то нечленораздельное, поворачивается к дверям.
– По-моему, у меня есть то, что вам понравится.
Я достаю из-под прилавка серебряный пакетик – такой же, какой она украла, только больше, – перетянутый белой лентой с желтыми цветочками. Она глядит испуганно, уголки большого неулыбчивого рта опускаются еще ниже. Я придвигаю к ней пакетик.
– За счет магазина, Жозефина, – ласково говорю я. – Берите, не бойтесь. Это ваши любимые.
Жозефина Мускат поворачивается и выбегает из магазина.
5
15 февраля, суббота
Я знаю, mon père, что пришел не в свой обычный день. Но мне нужно высказаться. Вчера открылась пекарня. Только это не пекарня. Когда я проснулся вчера в шесть, обертку с фасада уже сняли, навес и ставни на месте, над витриной поднят козырек. Некогда обычный невзрачный старый дом, как все дома вокруг, теперь сиял, словно конфетка в красно-золотистом фантике на ослепительно белом столе. На окнах горшки с красной геранью. Поручни оплетены гирляндами из гофрированной бумаги. А над входом дубовая вывеска с черной надписью:
ШОКОЛАДНАЯ «НЕБЕСНЫЙ МИНДАЛЬ»
Бред, да и только. У подобного заведения, наверное, отбоя бы не было от покупателей в Марселе, в Бордо или даже в Ажене, где с каждым годом все больше туристов. Но в Ланскне-су-Танн? Да еще в первые дни Великого поста, традиционной поры воздержания? Святотатство, быть может преднамеренное.
Утром я рассмотрел витрину. На белой мраморной полке ряды бесчисленных коробочек, пакетиков, серебряных и золотых бумажных рожков, розеток, бубенчиков, цветочков, сердечек, длинных завитков разноцветных лент. В стеклянных колокольчиках и на блюдах – шоколад, жареный миндаль в сахаре, «соски Венеры», трюфели, mendiants, засахаренные фрукты, гроздья лесного ореха, шоколадные ракушки, засахаренные лепестки роз и фиалки… Прячась от солнца за половинчатые жалюзи, они мерцают всеми оттенками темного, будто сокровища в морской пучине, драгоценности в пещере Аладдина. А в самом центре она возвела пышное сооружение – пряничный домик. Сдобные стены облицованы шоколадом, увиты необычными глазированными и шоколадными лозами, лепнина из серебряной и золотой глазури, крыша из вафельной черепицы усеяна засахаренными плодами, в шоколадных деревьях поют марципановые птицы… Там же ведьма собственной персоной – вся из черного шоколада от верхушки колпака до подола длинной накидки – верхом на помеле, которым служит ей гигантский guimauve, длинный корявый стебель алтея, наподобие тех, что свисают с уличных лотков на карнавале…
Из окна я вижу ее витрину – глаз, полуприкрытый в лукавом заговорщицком прищуре. Из-за этого магазина, торгующего соблазнами, Каролина Клермон нарушила Великий пост. Сама призналась мне вчера на исповеди. Слушая ее захлебывающийся писклявый голосок, я не верил, что она готова искренне раскаяться.
– О, mon père, мне так стыдно! Но что я могла поделать? Эта очаровательная женщина так любезна. Я хочу сказать, я даже не понимала, что творю, спохватилась, когда уже было поздно. А ведь если кто и должен отказаться от шоколада… Мои бедра за последние два года растолстели до безобразия, хоть ложись и помирай…
– Две молитвы Деве.
Господи, что за женщина! Ее глаза полнятся обожанием и буквально пожирают меня через решетку.
– Конечно, mon père, – разочарованно тянет она, якобы опечаленная моим резким тоном.
– И помните, почему мы соблюдаем Великий пост. Не для того, чтобы потешить собственное тщеславие или произвести впечатление на друзей. И не ради того, чтобы летом влезть в дорогие модные одежды.
Я намеренно жесток. Она этого хочет.
– Да, вы правы, я тщеславна. – Она всхлипывает, уголком батистового платка промокает слезинку. – Тщеславная, глупая женщина.
– Помните Господа нашего. Его жертву. Его смирение.
В нос бьет запах ее духов, какой-то цветочный аромат, в темном закутке тесно, запах слишком насыщенный. Может, она пытается ввести меня в искушение? Если так, зря старается: меня не проймешь.
– Четыре молитвы Деве.
Во мне говорит отчаяние. Оно подтачивает душу, разъедает клеточка за клеточкой, как летучая пыль и песок разрушают храм, годами оседая на его камнях. Оно подрывает во мне решимость, отравляет радость, убивает веру. Я хотел бы вести их через испытания, через тернии земного пути. Но с кем я имею дело? День за днем передо мной проходит вялая процессия лжецов, мошенников, чревоугодников, презренных людишек, погрязших в самообмане. Вся борьба добра со злом сведена к толстухе, изводящей себя жалкими сомнениями перед шоколадной лавкой: «Можно? Или нельзя?» Дьявол труслив: он не открывает лица. Не имеет сущности, распылен на миллионы частичек, что коварными червоточинами проникают в кровь и душу. Мы с тобой, mon père, родились слишком поздно. Меня тянет к суровой добродетельной поре Ветхого Завета. Тогда все было просто и ясно. Сатана во плоти ходил среди нас. Мы принимали трудные решения, жертвовали детьми нашими во имя Господа. Мы любили Бога, но еще больше боялись Его.
Не думай, будто я виню Вианн Роше. На самом деле ей вообще нет места в моих мыслях. Она – лишь одно из проявлений зла, с которыми я должен бороться изо дня в день. Но как подумаю о лавке с нарядным навесом, насмешка над воздержанием, над верой… Встречая прихожан у церкви, я краем глаза ловлю движение за витриной. «Попробуй меня. Отведай. Вкуси». В минуты затишья между псалмами я слышу, как гудит фургон, остановившись перед шоколадной. Читая проповедь – проповедь, mon père! – я замолкаю на полуслове, потому что слышу шуршание фантиков…
Утром моя проповедь была суровее обычного, хотя народу пришло мало. Ничего, завтра они поплатятся. Завтра, в воскресенье, когда все магазины закрыты.
6
15 февраля, суббота
Уроки сегодня закончились рано. К полудню улицу заполонили ковбои и индейцы в ярких куртках и джинсах – маленькие прячут учебники в ранцы или портфели, большие прячут в ладонях сигареты. Проходя мимо лавки, те и другие вроде как равнодушно косятся над поднятыми воротниками на витрину. Я замечаю мальчика в сером пальто и берете – подтянут, собран; школьный ранец идеально ровно сидит на детских плечиках. Мальчик идет один. У «Небесного миндаля» замедляет шаг, разглядывая витрину, но свет от стекла отражается, и я не вижу лица. Рядом останавливаются четверо ребятишек, ровесников Анук, и мальчик спешит удалиться. К витрине прижимаются два носа, потом все четверо пятятся и начинают выворачивать карманы, подсчитывая ресурсы. С минуту решают, кого послать в магазин. Я делаю вид, что занята за прилавком.
– Мадам?
На меня подозрительно таращится чумазое личико. Я узнаю Волка с карнавального шествия.
– Сразу видно, что ты любитель карамели с арахисом, – говорю я серьезно, ибо покупка конфет – серьезное дело. – Хороший выбор. Легко поделиться, в карманах не тает, и стоит вот такой большой набор, – я показываю руками, – всего-то пять франков. Верно?
Вместо улыбки мальчик кивает, как деловой человек деловому человеку. Его монетка теплая и чуть липкая. Он осторожно берет с прилавка пакетик и заявляет важно:
– Мне нравится пряничный домик. Тот, что в витрине.
Его друзья робко кивают от дверей, где стоят, прижимаясь друг к другу для храбрости.
– Круто.
Жаргонное словечко он произносит смачно, с вызовом, словно тайком закуривает.
– Очень круто, – улыбаюсь я. – Если хочешь, приходи сюда с друзьями, когда я уберу дом с витрины. Поможете мне его съесть.
Он таращит глаза.
– Круто!
– Супер!
– А когда?
Я пожимаю плечами.
– Я скажу Анук, она вам передаст. Анук – моя дочь.
– Мы знаем. Мы ее видели. Она не ходит в школу.
Последняя фраза произнесена с завистью.
– В понедельник пойдет. Жалко, что у нее тут пока нет друзей, – я ей разрешила их пригласить. Помочь мне украсить витрину.
Шаркают подошвы, липкие ладошки тянутся вверх, ребята пихаются и толкаются.
– Мы можем…
– Я могу…
Я – Жанно…
– Клодин…
– Люси…
На прощание я подарила каждому по сахарной мышке и смотрела, как они рассеялись по площади, словно пушинки одуванчика на ветру. Одна за другой их куртки полыхнули на солнце – красный, оранжевый, зеленый, голубой, – и вот они скрылись из виду. Я заметила в тени арки на площади Святого Иеронима священника Франсиса Рейно. Он наблюдал за детьми с любопытством и, по-моему, с осуждением во взоре. Вот ведь странно. Чем он недоволен? Он не заходил в лавку с тех пор, как засвидетельствовал свое почтение в наш первый день в городе, но я много о нем слышала. Гийом говорил о нем почтительно, Нарсисс – раздраженно, Каролина – кокетливо, с озорным лукавством, к которому, я подозреваю, она обычно прибегает, ведя речь о любом мужчине не старше пятидесяти. Они отзываются о нем без теплоты. Насколько я понимаю, он не местный, выпускник парижской семинарии. Весь его жизненный опыт – из книг, он не знает этого края, его нужд, его потребностей. Это мнение Нарсисса – он враждует со священником с тех самых пор, как отказался посещать службы во время уборочной страды. Он не выносит человеческой глупости, говорит Гийом, – глаза насмешливо блестят за круглыми стеклами очков, – то есть фактически весь род людской, ибо у каждого из нас есть глупые привычки и пристрастия, от которых мы не в силах отказаться. Рассуждая, Гийом с любовью треплет Чарли по голове, и пес, будто соглашаясь, важно вторит ему коротким отрывистым лаем.
– Он считает, глупо так привязываться к собаке, – с грустью жалуется Гийом. – Как человек тактичный, вслух он этого не говорит, но думает, что я веду себя неподобающе. В моем возрасте…
Гийом, пока не вышел на пенсию, был директором местной школы, где теперь остались всего два учителя, поскольку учеников все меньше, однако многие жители постарше до сих пор называли его maître d'école. Глядя, как он ласково чешет Чарли за ушами, я чувствовала, что его гложет печаль, – я заметила ее еще на карнавале; затаенная скорбь, почти вина.
– Человек в любом возрасте вправе выбирать друзей по своему усмотрению, – с жаром перебиваю я. – Возможно, monsieur le curé не мешало бы и самому поучиться у Чарли.
Опять та же добрая грустная полуулыбка.
– Monsieur le curé старается как может, – мягко говорит Гийом. – Не надо требовать от него большего.
Я промолчала. Щедрые люди щедры во всем. В моем ремесле быстро постигаешь эту нехитрую истину. Гийом покинул «Небесный миндаль», унося в кармане пакетик вафель в шоколаде. На углу улицы Вольных Граждан он наклонился и угостил вафлей Чарли. Погладил пса; тот гавкнул, вильнул куцым хвостом. Говорю же: некоторые люди щедры, не задумываясь.
Городок уже не кажется мне чужим. Его обитатели тоже. Я начинаю узнавать лица, имена; наматывается клубок первых историй, они сплетаются в пуповину, что однажды свяжет нас. Ланскне сложен, чего поначалу не скажешь по его незатейливой географии: от главной улицы, словно пальцы на руке, расходятся боковые ответвления – проспект Поэтов, улица Вольных Граждан, переулок Революционного Братства; очевидно, кто-то из устроителей города был ярым приверженцем Республики. И все эти пальцы тянутся к площади Святого Иеронима, где поселилась я. Тут среди лип гордо возвышается белая церковь, погожими вечерами старики играют в шары прямо на красных булыжниках. За площадью в низине лежит район с собирательным названием Марод[1] – переплетение узких улочек, скопление глухих покосившихся деревянно-кирпичных домишек, что пятятся к Танну по неровной мостовой. Трущобы Ланскне. Они подступают к самому болоту. Некоторые дома стоят прямо на реке, на гниющих деревянных платформах. Десятки других теснятся вдоль каменной набережной; длинные щупальца сырого смрада тянутся от стоячей воды к окошкам под самыми крышами. В городах вроде Ажена такой вот причудливый, по-деревенски неказистый, разлагающийся Марод стал бы местом паломничества туристов. Но в Ланскне туристов нет. Обитатели Марода – мусорщики, они живут на то, что удается выудить из реки. Здесь почти все дома заброшены, из просевших стен прорастают старые деревья.
В обед я на два часа закрыла «Небесный миндаль», и мы с Анук отправились к реке. У самой воды барахтались в зеленой грязи двое тощих ребятишек. Здесь даже в феврале стоит сочная сладковатая вонь гнили и нечистот. День выдался холодный, но солнечный. Анук, в красном шерстяном плаще и шапке, носилась по камням, громко беседуя с Пантуфлей, скачущим за ней по пятам. Я уже настолько привыкла к Пантуфлю – как, впрочем, и к другим сказочным бродяжкам, следующим за Анук незримыми тенями, – что порой мне кажется, я почти вижу его – странное существо с серыми усами и мудрыми глазами, и дивная метаморфоза неожиданно расцвечивает мир, и я превращаюсь в Анук – смотрю ее глазами, хожу там, где ходит она. В такие минуты я чувствую, что могу умереть от любви к ней, моей маленькой скиталице. Мое сердце разбухает, едва не лопается, и я, чтоб и впрямь не умереть от избытка чувств, тоже бегу со всех ног, и мой красный плащ развевается за плечами, будто крылья, волосы струятся за спиной, как хвост кометы в клочковатом синем небе.
Дорогу мне перебежал черный кот. Я остановилась и затанцевала вокруг него против часовой стрелки, напевая:
Où-ti-i, mistigri?Passe sans faire de mal ici.[2]Анук подпевала мне, кот с урчанием повалился в пыль и перевернулся на спину, требуя, чтобы его погладили. Я наклонилась к нему и заметила щуплую старушку – она с любопытством наблюдала за мной из-за угла. Черная юбка, черный плащ, заплетенные в косу седые волосы уложены на голове в аккуратный сложный узел, глаза внимательные и черные, как у птицы. Я кивнула ей.
– Ты – хозяйка chocolaterie, – сказала она.
Несмотря на возраст – лет восемьдесят, должно быть, если не больше, – у нее звучный, резкий и оживленный голос южанки.
– Да, верно.
Я назвала себя.
– Арманда Вуазен, – представилась старушка. – А вон мой дом. – Она кивком показала на один из домиков у реки – опрятнее остальных, со свежей побелкой и алой геранью в ящиках за окнами. Потом улыбнулась, отчего ее розовое кукольное личико собралось в миллионы морщинок. – Я видела твой магазин. Симпатичный. Это ты молодец, постаралась. Только он не про нас. Чересчур броский. – В ее тоне не было неодобрения – только ироничная обреченность. – Я слышала наш m'sieur le curé уже против тебя ополчился, – язвительно добавила она. – Надо полагать, он считает, что шоколадной не подобает стоять на его площади. – Вновь посмотрела насмешливо, вопросительно: – Ему известно, что ты ведьма?
Ведьма, ведьма. Слово неверное, но я поняла, о чем она.
– Почему вы так решили?
– О, это же очевидно. Рыбак рыбака видит издалека. – Смех – точно какофония взбесившихся скрипок. – M'sieur le curé не верит в чудеса, – сказала она. – По правде говоря, я подозреваю, что он и в Бога не верит. – Ее голос полон снисходительного презрения. – Хоть и имеет диплом богослова, а ему еще учиться и учиться. И моей глупой дочери тоже. В институтах ведь жизни не учат, а?
Я согласилась и спросила, знаю ли ее дочь.
– Да уж думаю. Каро Клермон. Безмозглая финтифлюшка, глупее не сыскать во всем Ланскне. Говорит, говорит, говорит, – и хоть бы слово разумное сказала.
Увидев, что я улыбаюсь, она весело кивнула.
– Не беспокойся, дорогая, меня в моем возрасте уже ничем не оскорбить. А она вся в отца. Великое утешение. – Старушка вгляделась в меня. – Здесь мало чем можно поразвлечься, – заметила она. – Особенно в старости. – Она помолчала, всмотрелась пристальнее. – Но пожалуй, с тобой мы все же позабавимся.
Ее голова коснулась моей, и меня словно обдало свежим дыханием. Я попыталась уловить ее мысли, понять, не издевается ли она, но поймала только доброту и веселье.
– Я просто торгую шоколадом, – с улыбкой сказала я.
Арманда Вуазен фыркнула.
– Да ты, я вижу, и впрямь решила, будто я только вчера родилась.
– В самом деле, мадам Вуазен…
– Зови меня Армандой. – Черные глаза заискрились смехом. – Так я чувствую себя моложе.
– Хорошо. Но я в самом деле не понимаю…
– Я знаю, каким ветром тебя занесло, – перебила она. – Сразу почувствовала. Ты пришла с карнавалом. В Мароде полно карнавальных: цыгане, испанцы, бродячие ремесленники, выходцы из Алжира, прочий сброд. Я вас сразу узнала – тебя и твою малышку. Как теперь вы себя называете?
– Вианн Роше, – улыбнулась я. – А это Анук.
– Анук, – ласково повторила Арманда. – А твой серенький дружок – зрение у меня теперь не такое острое, как прежде, – кто он? Кот? Бельчонок?
Анук качнула кудрявой головой и с бодрым пренебрежением доложила:
– Это кролик. И зовут его Пантуфль.
– Ах, кролик. Ну конечно же. – Арманда лукаво подмигнула мне. – Видишь, я знаю, каким ветром вас занесло. Я и сама пару раз ощущала его дыхание. Может, я и стара, но меня никому не одурачить. Никому.
Я кивнула.
– Может, и так. Приходите как-нибудь в «Миндаль». Я знаю, кто какие лакомства любит. И вас угощу вашими любимыми. Получите большую коробку.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
От les marauds(фр.)– презренные.
2
Киска, киска, ты куда? Проходи, не делай зла(фр.).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



