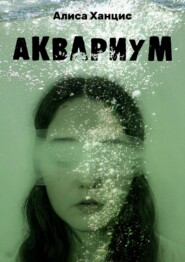
Полная версия:
Аквариум. Музыкально-пластическая драма в трех частях с прологом и эпилогом

Аквариум
Музыкально-пластическая драма в трех частях с прологом и эпилогом
Алиса Ханцис
© Алиса Ханцис, 2023
ISBN 978-5-0051-7587-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Нижеследующий текст не содержит скрытых цитат. Совпадение любых его фрагментов с другими текстами, опубликованными ранее или позднее, следует считать непреднамеренным.
Все произведения и их авторы, упомянутые в тексте, являются реальными, за исключением вымышленных.
И вот они мы: мой брат, моя сестра и ваш покорный слуга. Мне хочется сделать именно так, показать нас всех в кадре, прежде чем начнется действие. Можно, конечно, создать сперва атмосферу: тягучий гитарный аккорд или долгий-долгий план руки, опущенной в воду с моторной лодки. Но надо сразу обозначить, кто тут главный.
Итак, мы втроем сидим на лужайке. День солнечный, и одежда у нас яркая, и ветер развевает наши длинные волосы. Красиво, в общем. Потом в кадр въезжает машина – такой типа фургончик, разукрашенный под радугу. Движется слева направо на переднем плане – и стирает нас. Ну, она проехала, а нас на лужайке нет, понятно? Дальше сцена – мы уже внутри машины. Там пусто и всё белое, только по центру на полу стоит магнитофон. Я нажимаю «пуск», и тут-то всё и начинается.
Мик – тогда он носил другое имя, но мы опустим это для удобства – нажал на «стоп» и сказал небрежно:
– Ну, вот как-то так. Я дальше не записывал, чтобы можно было вставить твой вопрос. Так поживее будет.
Тео – которого, казалось, звали так всегда – помолчал и сказал мягко, но веско:
– У тебя там анахронизм.
– В смысле?
– Это ведь шестидесятые? Тогда еще не было магнитофонов с кассетами.
– Даже в конце?
– Еще лет десять точно, – Он увидел, что брат понурился, и добавил: – Но вообще, знаешь, анахронизм – это же необязательно ляп. Может, ты этим хотел что-то сказать. Но тогда уж ты должен точно знать, что.
Стало слышно, как тикают на тумбочке часы. Даже сестра перестала притворяться, что ей неинтересно: она по-прежнему сидела за письменным столом, но уже не шуршала ни страницами, ни карандашами. Ну давайте же дальше, думала она сердито; и, не дождавшись, повернулась к ним лицом.
– А что там был за слуга покорный в самом начале? Что за выпендреж?
– Как раз нет, – сказал Тео. – Это он сейчас выпендривается. А на пленке человек уже взрослый и великий, вот и говорит о себе скромно.
– Значит, это пленка из будущего?
– Ну да. Бывают же архивы, где хранится всякое, чего уже нет. А это архив наоборот. Вихра.
Тина – которую, с легкой руки брата, никто иначе и не называл – в задумчивости пожевала кончик своей косички.
– А этот анархи… анархо…
– Анахронизм.
– Да. Он бывает наоборот?
– Конечно. Вот мы говорим про пленку, а в будущем, может, наши интервью запишут на что-нибудь другое. На компакт-диск, например. Или всё будет только на видео. А вообще-то детали не так важны. Важна идея.
Часть 1
1. Мик
– Вы помните, что впервые побудило вас к творчеству?
– Я хорошо это помню, хотя был тогда совсем маленьким. Вообще, мне всегда была интересна эта тема – как случайность может повлиять на всю нашу дальнейшую жизнь. К примеру, в одной многодетной американской семье как-то раз сломался телевизор. Семья была бедная, и пришлось им самим придумывать, чем занять детей по вечерам, когда на улицах становится опасно. И вот они начали петь все вместе, да так здорово, что попали на сцену. Дальше вы и сами знаете, наверное.
– В вашей семье тоже что-нибудь сломалось?
– Именно так. Только это был не телевизор, а я.
Ему самому было трудно вспомнить, когда это случилось, но родители говорили, что он еще не ходил в школу. Ненастным осенним днем заболела голова, начался жар, его уложили в постель. Он лежал и думал: хорошо, что дождь и холод – не так обидно торчать дома в воскресенье. Остальные тоже сидели взаперти. Брат-второклассник, стащив у отца отвертку, пытался разобрать сломанный приемник. Сестренка, лежа на полу, выводила каракули в альбоме и бубнила под нос самодельную сказку про лягушонка, который пришел в гости к мышонку. Ей не нужны были ни зрители, ни соучастники, но все трое любили быть вместе – каждый в своем пузыре. Они были тогда икринками, живущими в одном аквариуме. Странным образом, Мик помнил, что думал тогда именно об аквариуме, стоявшем в соседней комнате, между пианино и сервантом. От него веяло умиротворяющей прохладой. Вечерами, когда родители ссорились на кухне, выясняя, кто из них мужчина, было приятно смотреть на тускло освещенный экран, бросавший на стены голубоватые блики. А сейчас, в горячке, ему хотелось съежиться до размеров собственной ладони и нырнуть к танцующим гуппи. Вода остудила бы голову, и он мог бы двигаться упруго и легко, не чувствуя боли в ноге. Потому что нога тоже ныла – пока еще недостаточно сильно, чтобы жаловаться, но навязчиво и тягуче, как зуб.
На другой день вызвали доктора, и про ногу всё-таки пришлось рассказать. Память об этом докторе потом стала в их семье оберегом: родители решили, что такое везение не могло быть случайностью. Им досталась болезнь-хамелеон, способная маскироваться под другие и нападать из-за угла. Однако диагноз сразу поставили верный, и Мику не пришлось ложиться под нож. А все свои рецидивы он научился встречать с презрением настоящего мужчины. Все, кроме самого первого – в одиннадцать лет.
«Ты чего это?» – спросил сверху голос брата, и Мику захотелось заорать от обиды. Он накрыл голову одеялом и стиснул зубы. Ненавижу, твердил он себе; эту болезнь, эти подлые слезы, ненавижу всех, кто сочувственно пялится, кто ходит по дому на цыпочках и без стука открывает дверь. Я еще не умер. Не дождетесь.
Сквозь одеяло он услышал, что брат с кем-то разговаривает. Он приоткрыл одно ухо, затем один глаз – в комнате, кроме них, никого не было, и Тео обращался к бесформенной куче постельного белья, присев на краешек стола. На нем была рубашка какого-то дикого розового цвета, и от неожиданности Мик пропустил остаток фразы мимо ушей.
– Так что ничего страшного с тобой не случится, – заключил Тео.
Он оказался прав. Когда Мик вернулся из больницы, нашпигованный лекарствами и снаряженный парой костылей, на дворе уже стояло лето. Насмешки одноклассников едва маячили впереди, и гулять можно было почти без опаски – все разъехались кто куда. Он ковылял, неузнанный, по тенистым аллеям парка. Ладони у него потели от напряжения, всё вокруг плыло в душном мареве, а он считал фонарные столбы, чтобы каждый раз делать на полсотни шагов больше. Никто никогда не сопровождал его – брат и сестра гуляли сами по себе. Но дома они почему-то оказывались все одновременно, и долгие предзакатные часы заставали их всё в той же спальне, которая становилась им мала.
Пока Мик валялся в больнице, на стенах комнаты прибавилось картинок. В основном это были узоры, яркие, как в калейдоскопе, и какие-то мультяшные. Появились и новые лица: мрачноватые черно-белые парни в пиджаках и галстуках, они же в цвете – растрепанные, в попугайских рубахах и штанах в обтяжку. Пара новых пластинок в серванте, которыми Тео не спешил хвастаться. Вместо этого он стал часто заходить в их комнату, где Мик баюкал на кровати свою ноющую костяную ногу. Приносил какие-то журналы и листы бумаги, ничего не объясняя и делая вид, что не замечает брата – пока однажды, торжествуя, не втащил в комнату квадратный чемоданчик.
– Ты что, ее спер? – недоверчиво спросил Мик, глядя, как Тео бережно ставит на стол пишущую машинку.
– Ну почему сразу «спер»? Попросил. Типа реферат писать. Ты видел, у меня почерк какой? Как у врача. Все на стенку лезут.
Машинка была мамина. Её стук они слышали часто, но никто не видел, чтобы она покидала пределы родительской комнаты, поделенной платяным шкафом на спальню и кабинет. На кухне мама работать не любила, однажды бросив в сердцах, что её тошнит от одного вида кастрюль.
– У нее же скоро день рождения, – продолжал Тео. – Есть идея.
Мик прикинул, какой сейчас месяц: что-то не сходилось. Но брат только поморщился, прочитав на его лице немой вопрос.
– Ты тупой? Если позже попросить, она обо всем догадается.
Он хотел обидеться, но передумал. Все знали, что мама никогда ни о чем не догадывается. Значит, дело не в этом.
Когда все были в сборе, Тео рассказал им свой план: надо сделать что-то такое, чтобы все упали. Не те семейные газеты со свойскими шуточками, какие они рисовали на все праздники – а настоящий журнал, с напечатанным текстом и кучей картинок. Чтобы выглядел по-взрослому, но только на первый взгляд.
– А почему на первый?
– Потому что иначе скучно. Можно взять всякие новости из газеты, но это любой дурак сделает. А вот если мы сами сочиним что-то прикольное…
– Типа чего?
– Не знаю еще, – он вздохнул. – Но надо, чтобы оно только казалось серьезным. Это самое важное.
Мик переглянулся с сестрой. Кнопка-второклашка с хвостиком на макушке, она вряд ли представляла себе, о чем идет речь, но одно знала наверняка: маму надо удивить. Только так она обратит на тебя внимание. Непонятно только, зачем это внимание понадобилось старшему брату.
С того дня всё и переменилось. В доме стало тише; они почти не крутили пластинки в большой комнате и мало смотрели телевизор, зато постоянно что-то придумывали, вместе и по отдельности – когда гуляли, когда помогали отцу по хозяйству. Время стало лететь быстрее, но это почему-то не пугало Мика: он будто перенесся в другое измерение, где нет ни школ, ни больниц, ни плохой погоды. Много позже он понял, что произошло: они просто вылупились из икринок, и теперь весь аквариум стал их общим пузырем, где плавалось свободно и где проступали, пока еще смутно, очертания большого мира по ту сторону стекла.
Поначалу они еще делали вид, что придумывают для мамы, но к исходу лета журнал начал жить сам по себе. В нем появились рубрики «Вопросы без ответов», с загадками собственного сочинения, и «В мире всего», куда они вклеивали отпечатанные узкими столбиками новости – как им самим казалось, уморительно смешные. Чтобы столбики были ровными, приходилось заранее размечать рукописные черновики. Кропотливую работу поручили сестре, и она, высунув язык от напряжения, считала знаки и отмечала, где надо добавить пробел или перенос. Она же рисовала заголовки, добавляла рамки и быстро снискала уважение братьев за аккуратность и каллиграфический почерк.
Начался учебный год. Мик по-прежнему ходил на костылях, но худшим его опасениям не суждено было сбыться. Главный хулиган класса ограничился тем, что назвал его Гнойным, а с другого конца социальной шкалы ехидно поинтересовались, как пишется «остеомиелит».
– Да пошли они, – беззлобно сказал Тео. – Может, тебе эта грамотность нафиг не сдалась. Бывают же профессии, где буквы не важны – вот моя, например. Ты лучше спроси его, как пишется… – он кинул на сестру взгляд через плечо и выдохнул конец фразы в самое ухо брата.
– А что это? – спросил Мик с опаской.
Ответ был дан всё тем же шепотом, и оба покатились со смеху.
На следующий день Мик триумфально взял реванш, задав свой вопрос ехидному отличнику. Хулиган оказался в числе немногих, кто в полной мере оценил шутку, и Мик был восстановлен в правах.
Они доделали тогда свой журнал и начали второй номер. А потом брату стукнуло четырнадцать, и ему подарили магнитофон.
2. Тео
– Как вам удается сочетать несочетаемое?
– То есть?
– Вы работаете в очень разных, даже полярных, стилях…
– О, это легко. Я по гороскопу Близнецы.
Он всегда знал, кем станет. Немногие верили, что такое бывает – тем более с ним. Дольше всех не верила сестра. Он уже заканчивал школу, планы были определены, а будущее ясно, как пень, но Тина сказала:
– Невозможно знать свое будущее.
Кто-то, кажется, спросил ее – а кем она станет, когда вырастет?
– Без понятия. Я знаю только, кем я была.
– Когда?
– В прошлой жизни.
– И что же ты помнишь из прошлой жизни?
– Я была художницей, рисовала картины. Но они никому не нравились, и я покончила с собой.
– Как?
– Не помню. Как-то красиво.
Он тогда подумал, что ей удивительно идет это имя. Тин-тин-тин – шаги по жестяной крыше. И глаза у нее были болотные. Тео смотрел на сестру, и женский голос у него в голове зловещим басом пел про реинкарнацию.
Но сам он знал про себя всё, хоть Тина и говорила, что из тысячи мальчиков со скрипочками и папками для нот лишь один становится настоящим музыкантом.
Наверное, если бы учеба не давалась ему так легко, он бы бросил её и придумал себе другое занятие. Музыка никуда бы не делась – она и так окружала его со всех сторон. Он стал бы журналистом или переводчиком, и в его машине не затихала бы магнитола, а вечерами он бы брал уроки игры на саксофоне у полуспившегося джазмена из дома напротив. Может, так было бы даже интересней. Но выбирать не пришлось. Память его оказалась цепкой не только на знаки – он читал с трех лет – но и на звуки, и на моторику. Игра на пианино была всего лишь игрой, неспособной убить страстной тяги к музыке во всех ее видах и формах.
Был в этом и другой приятный момент: музыкальные успехи, так льстившие родителям, позволяли с чистой совестью забивать на школьные уроки. Потому что либо одно, либо другое, и разве можно так нагружать ребенка, у которого на носу очередной экзамен по специальности – пусть он даже прогулял все каникулы и потом ночами мучал и соседей, и инструмент. Учителя, как правило, всё понимали и смотрели сквозь пальцы. Но нет правил без исключений.
Сидя за партой на своем козырном месте – у окна галерки, – Тео мог с закрытыми глазами определить, какой проходит урок и кто его ведет, и слышать учителя ему было для этого совершенно необязательно. Где-то всегда царила напряженная тишина, где-то летали из угла в угол, как шарики жеваной бумаги, редкие шепотки, и только в этом классе всегда висело гудящее комариное облако. Долговязый учитель прохаживался между рядами и, лениво отмахиваясь, раздавал задания. Урок подходил к концу, и у всех уже нестерпимо зудело. Тема домашнего сочинения была вообще-то свободная, но даже ёж понимал, что без любого, пусть самого жалкого костыля для подпорки воображения их ждет дезориентация и коллапс. Но фантазия водящего тоже не отличалась искрометностью, и фанты раздавались по одному на группу. Группы различались по количеству человек, предсказать их состав было невозможно, и Тео обреченно ждал очереди, как вдруг услышал свою фамилию.
– Противопоставление рока и классики, – сообщил препод с какими-то садистскими модуляциями в голосе.
Сосед по парте покосился на Тео и на всякий случай отодвинулся.
Тут надо сразу сказать, что никаких трудностей с письмом, кроме почерка, у него не было – наоборот: всем известно, что в июне рождаются исключительно двуглавые гидры. У Тео вторая голова отвечала за предмет «Родной язык и литература». Беда была в том, что любое сочинение неизменно превращалось у него в полет авторской мысли, и эта мысль одурелой ласточкой металась от одной сочной мошки к другой, не в силах насытиться и не в силах остановиться, потому что ласточка парить не умеет, а вместо этого падает оземь, как подстреленная. Оставалось надеяться, что со временем можно будет подкачать писательскую мышцу и превратиться, например, в орла. Но ведь в школе ждать не будут.
Он задумался всерьез. Лучше всего думалось сильно заполночь, когда и в доме, и на улице звуки истончались и делались звонче – тогда и голова его наполнялась звонкой пустотой. Он лежал и ждал идеи, и та рано или поздно приходила. В такие моменты он думал – как дышал. Вдох-выдох. Рок-классика. Они противопоставляются – стоят друг напротив друга, как боксеры на ринге. Чушь какая. Он же знает, что нет никакого бокса, а есть танец. Рок и классика – они кружатся вместе, как две длиннохвостые рыбки в аквариуме. Он ведь тогда вспомнил именно аквариум – когда игла проигрывателя впервые легла в эту бороздку. По комнате поплыл молодой мужской голос, искаженный реверберацией – будто из-под воды; и не было там поначалу никакого рока. Бряцали фоном серебристые струны, но он сразу услышал, что это не гитара. Он потом вспомнил – а может, подсмотрел где-то – название: клавесин. Слово из другой эпохи, из неведомой другой страны, о которой пелось в песне. Ну и какое тут, нафиг, противопоставление, я вас спрашиваю? («нафиг» он решил потом вычеркнуть, и без него зазвучало даже лучше). А сколько их было потом, таких рок-музыкантов, которые и на пианино сами могли, и чередовали на одной пластинке разные стили, как в калейдоскопе – ретро, кантри, хэви-метал, опера, наконец! Какое противопоставление – вы что там, с дуба рухнули?
– Слушай, а круто, – восхитился брат, прочитав сочинение. – Давай еще кому-нибудь покажем?
Они собрали семейный совет, и тот единогласно подтвердил: это было в самом деле круто. Отец заметил лишь, что про аквариум можно было написать и побольше, зато мама так впечатлилась умелым использованием риторических приемов, что предложила послать работу в какой-нибудь журнал в качестве эссе. Не было сомнений, что высшая оценка в классе ему обеспечена.
«Самая безликая и бесцветная из всех существующих теней деликатно легла на тетрадь, сделав страницы серыми». Это он напишет чуть позже, а пока – тень оказалась ни фига не деликатной, и тетрадь ему сунули с такой брезгливостью, словно нашли там журнальную вырезку с порнухой.
– Это, конечно, было очень забавно. Но когда я даю задание, я предполагаю, что оно будет выполнено. Тройку ставить не хочу: вы, молодой человек, способны на большее. Жду от вас второй редакции.
Тео, не глядя, принял непристойно распластанную тетрадь. Краешек страницы бритвой резанул палец, он машинально сунул его в рот и подумал: интересно, почему говорят «несолоно хлебавши» – вот ведь солоно, а толку-то.
Он перешел уже в последний класс, когда Мик Костяная Нога решил снова загреметь в больницу. Как и прежде, он любил делать это под самые каникулы, чтобы все их планы пошли коту под хвост. На сей раз каникулы были осенние, но все равно было обидно – причем больше за дурака, чем за себя. Сам-то он и в выходные успевал и поиграть, и нагуляться, а брат стал вдруг серьезным и без продыху учился, точно уже нацелился в универ. Выписавшись из больницы, он засел дома и принялся что-то корябать в тетрадке – должно быть, свой первый сценарий.
– Я на репетицию, – сказал Тео, заглянув в спальню.
Мик ответил «Валяй»; сестра молча встала и выскользнула из двери ему навстречу.
– Я с тобой.
– Ну вот еще. Сиди с больным.
– Он не маленький, – резонно возразила Тина. – А ты, между прочим, обещал, что покажешь свою группу.
– Ну езжай сама на двух автобусах, я провожать не буду.
– А ты?
– Я на велике.
– И я на велике. Костяной Ноге он все равно ни к чему.
Тео вздохнул: сестра была из тех, кому проще дать. Пришлось ковыряться, настраивая ей седло, а время уже поджимало. Они выехали со двора, всколыхнув сырой стоячий воздух, и комья грязи полетели из-под колес в сторону их фабричного квартала. Навстречу теперь неслись беленые штакетники частных домов. Через пару километров дорога становилась почти проселочной и начинала спускаться в заболоченную долину с пустырями на другой стороне. Ветер засвистел в ушах, и Тео, смаргивая слезы, увидел, что сестра идет на обгон. Впереди им преграждала путь лужа, длинная и коварная, как мираж. Тео крикнул сестре, чтобы притормозила, но вместо этого она сильней налегла на педали, вонзилась в воду и раскинула в стороны тощие ноги в голубых джинсах, чтобы не забрызгаться. Сам он не сообразил, что так можно, и только выругался, смачно и весело, когда его обдало волной.
Здание клуба было неказистым – Тео стало даже чуть стыдно перед сестрой за его убогий вид. С другой стороны, все когда-то начинали, и многим приходилось играть в клоповниках похуже этого. Зал там был вполне неплохим, а вдобавок клуб стоял на склоне и имел огромный подвал, где можно было выпрямиться во весь рост. Практичность этого места успели уже оценить все участники группы – каждый по-своему.
Тео отомкнул висячий замок на подвальной двери и затащил чумазые велики. Сестра потянулась было заглянуть внутрь, но он оттеснил ее плечом.
В зале уже собрался весь состав. Ланс, извиваясь и блестя новенькой кожей, как черная мамба, хлопал струнами на басу; остальные уселись в кружок и болтали. На Тину они глянули вскользь и повели себя на удивление по-джентльменски – то есть приняли негласное решение ее игнорировать. Тео подумал, что, наверное, это даже хорошо, что сестра не похожа на своих ровесниц. Будь у нее хоть одна из приманок, на которые делали стойку все окрестные кобели, – водопад белокурых волос, полускрывший высокую грудь, привычка носить в любую погоду обрезанные по самое не могу джинсовые шорты, вот это всё – он бы чувствовал себя теперь неуютно. Но Тина, до сих пор картавившая и вечно одетая в одни и те же линялые штаны и полосатый свитер, не была похожа на девочку-подростка. А после того, как она со скандалом отстригла свою длиннющую косу – просто пришла и села в кресло парикмахерской, зажав деньги в кулачке – всё встало на свои места. Теперь посторонние замечали в ней только острые, приметливые глаза под темной челкой: глаза умного мальчишки.
Тина осмотрела зал и, кажется, осталась довольна. Без приглашения взяла один из раскладных стульев, стоявших в углу, уселась напротив сцены и громко спросила:
– А как называется ваша группа?
– Пока никак, – ответил Тео. – А ты бы как ее назвала?
Тина подумала и сказала:
– «Рожицы».
– Уже занято, – возразил Тео. – Я им предложил «Ланс и дромадеры».
– «Дармоеды», – поправили сзади.
– «Драммашины».
– Ну уж нет, – Тео, оставив сестру, занял свое место за клавишными. – Мы же не попсня какая-нибудь.
В подтверждение последнего тезиса он сыграл мотивчик с самой заслушанной на тот момент кассеты. Он любил эту песню, потому что при первом знакомстве она его напугала – как пугают фильмы ужасов, но не те, где льется кровища и уши закладывает от визга. Он видел маленькую девочку, прыгавшую через скакалку, и что-то ритмично постукивало на фоне её дебильной песенки – будто кости мертвеца. Это было здорово сделано. Члены группы, взращенные на сорочьей мишуре диско, а ныне тяготевшие к целлулоидной и претенциозной «новой волне», над записью только поржали. Он был единственным, кто оценил гениальность альбома. Более того: он тогда впервые осознал, что гениальной может быть женщина (мама, разумеется, не в счет).
Не переставая играть, он сменил размер, а затем и темп, и принялся карабкаться выше по квартам. Ему вспомнилась придуманная как-то ночью идея – он никогда ничего не записывал, идеи приходили и уходили, как гости веселых попоек у старших ребят, где он был завсегдатаем. Но чья-то дурашливая реплика спугнула Музу. Долгоносая, буренькая и во всех смыслах прозаическая на вид, Муза по-вертолетному резко ушла вверх, и коренастое ее тельце пропало из виду. Крыльев не было видно и раньше: вместо крыльев Музу окутывала электрическая жужжащая рябь.
Они не успели еще прогнать и пары песен, как сестра стала маяться от безделья: скрипеть стулом, постукивать кедами по полу, а потом и вовсе залезла на сцену и сунула нос за аляповато раскрашенный фанерный задник. Участники группы начали переглядываться, а потом, коротко посовещавшись, предложили отвести ребенка погулять.
– Заодно покурим, – согласился молчавший до этого строгий Ланс.
На улице накрапывал дождик. Они потоптались на крыльце, разгоняя ранние сумерки сигаретными огоньками. Тео подумал, что сестру не стоило бы отпускать домой одну. Можно, конечно, снарядить ее ехать на автобусе, чтобы не мешалась. Вслед за этим он вспомнил, что на втором велике, кажется, всё равно нет фонарика. Чертыхнувшись себе под нос, прошел к подвалу, на ходу вынимая ключ.
– Иди к ребятам, – сказал он через плечо, услышав ее шаги.
– Я просто хочу посмотреть, что там.
Он с грохотом открыл дверь и, не включая света, провел рукой по рулю – фонарика не было. Зато сестра уже была внутри и с любопытством озиралась, пытаясь разглядеть хоть что-то в сером свете, падавшем с улицы.
– Так-так, – послышалось из-за спины. – Экскурсию ей проводишь? А не испугается?
Тео обернулся – огоньки весело обступали его со всех сторон, как на кладбище.
– Она ничего не боится.
– Правда ничего?
Он почувствовал, что у него немеет лицо: даже в сумерках он не мог позволить ни одному мускулу выдать его.

