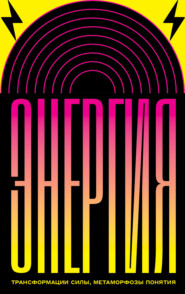
Полная версия:
Энергия. Трансформации силы, метаморфозы понятия
Несмотря на то что понятие энергии в своей исторической динамике характеризуется текучестью, трансгрессией, открытостью к изменениям, наблюдаемость воздействия энергии «здесь и сейчас» неотделима от материальности и медиальности. Вторая часть, Носители энергии, посвящена этому противоречию между тенденцией к дематериализации и медиальной вирулентностью. Кристоф Азендорф рассматривает «лучи», а также «вибрации, колебания и волны» в качестве примеров дематериализации и сгущения энергий, спровоцированных изучением и практическим освоением электричества на протяжении XIX века. В его работе происходит взаимопроникновение медицинских, естественно-научных и эстетических наблюдений. Асимметрия энергии и медиальности характерна для истории различных теорий языка, имеющих тенденцию отнимать у него энергетический потенциал, когда речь идет о письме. Это наблюдение становится отправной точкой для исследования Сюзанны Штретлинг, выявляющего специфику взаимодействия кинетического, онтологического и семантического моментов, лежащих в основе энергетических теорий; это позволяет точнее определить как формальную открытость понятия энергии, так и варианты медиализации этого понятия. Павел Флоренский представлен как пример модерной констелляции производства энергии письма из энергии языка. В статье Юрия Мурашова анализируется метафорика «горячего» и «холодного», которую развивает канадский теоретик медиа Маршалл Маклюэн. Различия между устным и письменным являются для него критерием выделения разных энергетических потенциалов у различных медиа. Статья показывает, как теоретическая рефлексия о времени в термодинамике 1950‐х годов обретает актуальность и эпистемологическую значимость в медиафилософии и культурологии.
Уже в греческой античности литература и искусство выходят на передний план в попытках понять те особенности художественного творчества и его рецепции, которые находятся за пределами технического и формального. Этому посвящена третья часть сборника – Эстетика энергии. Оттила Шимон анализирует сформулированное в диалоге между Сократом и Ионом учение Платона об enthousiasmos, где Гомер и образ магнита положены в основу обсуждения жизненной силы эстетики, понятой как движение, сила и передача энергии. В художественном энтузиазме Платона сознание, ориентированное на понятийность, подвергается дионисийскому освобождению. Платоновская энергетическая формула искусства выступает исходным пунктом и для эстетико-философских тезисов Кристофа Менке, по-новому трактующего оппозицию поэтического technē и эстетико-энтузиастической силы в их взаимной соотнесенности. Менке указывает на обретение этим соотношением новой злободневности и экзистенциально-философской остроты в связи с сегодняшними постмодернистской, капиталистической экономикой развлечений и социальной политикой. Художественная forza и ее «трансгрессивное ядро» оказываются доминирующими и в дискурсе о живописи итальянского Ренессанса XIV–XVI веков, в рассуждениях о напряжении между фактической плоскостностью и эффектом трехмерности (rilievo) в живописных техниках и в теориях, связанных с восприятием живописи, с удаленными объектами и близлежащими телами, с отношениями между живописью и скульптурой, а также техникой кьяроскуро. На этом фоне в статье Франка Ференбаха рассматривается композиционная полярность близкого и далекого в пейзаже, отражающая животрепещущую для изобразительной теории констелляцию, сопряженную с концепцией силы. Мэтью Фольграфф демонстрирует, как в историческую иконографию Аби Варбурга проникают представления о полярности природы, взятые из физики и теории энергии второй половины XIX века. В мыслительной конструкции взаимного превращения кинетической и статической энергии при движениях маятника Варбург находит модель описания, позволяющую ему, отталкиваясь от имманентности мотивных структур, проследить процессы исторической рецепции и изменения толкований в истории, а также оценить восприятие нового в перспективе воспоминания. В статье Татьяны Петцер освещается российская рецепция оствальдовского понимания энергии до и после революции. Эта рецепция обнаруживает себя в диапазоне от energetic turn в научно-философских, организационно-технологических, биохимических, космологических и религиозно-философских теориях до различных трансформационных эстетик или энергетических сценариев, циркулировавших в литературном контексте (в творчестве Максима Горького, Андрея Белого, Евгения Замятина, Андрея Платонова и Федора Гладкова). На фоне распространенности понятия энергии в русском авангарде разворачиваются дискуссии о ритме, которые, выходя за рамки теории стиха, перемещаются в сферу эмпирико-психологических исследований, касающихся дискурсов о теле (танце, гимнастике), кино, теории музыки, архитектуре и изобразительном искусстве. Георг Витте выделяет многообразные соположения энергии и ритма в таких различных понятийных изводах, как импульс и энграмма, заряд и разряд, текучее постоянство и секвенциализация, движение и его запись. Убедительно демонстрируются пространственные и временные, а также трансмедиальные измерения этого взаимопроникновения энергии и ритма.
В четвертой части рассматривается Политэкономия энергии. Термодинамические законы сохранения энергии и возрастания энтропии являются тем контекстом, в котором Ансон Рабинбах производит свои наблюдения над концепцией «рабочей силы» психолога и медика Гельмгольца, указывая на моменты, послужившие толчком к дальнейшему развитию понятия «рабочая сила» в квантитативно-экономическом, психологическом и социальном направлениях. Под влиянием все той же термодинамики со второй половины XIX века по-новому фокусируется интерактивное взаимодействие между харизматичным индивидуумом и приводимой им в движение массой. Михаэль Гампер раскрывает этот тезис на трех примерах: рассуждениях Густава Лебона о политическом и риторическом предводителе масс; социальном типе «человека собственной силы», своим деятельным примером приводящим массу в движение; и обмене энергией между активным субъектом и зрительской массой во французской спортивной культуре 1920‐х годов. Илья Калинин описывает технологические, художественные, политические, политэкономические дискурсы о социализме как об обретении доступа к неограниченным источникам энергии, согласно которым энергия понималась как сила, преобразующая социополитический порядок и даже антропологическую природу человека. Наиболее интересным моментом этой дискурсивно разнообразной рефлексии была взаимная диффузия между организующими ее дискурсивными формациями, риторические и концептуальные переплетения этих дискурсов и практик, а также различные примеры метафоризации и символизации понятия энергии. Наталья Ганаль в своей статье анализирует важные для ранней советской культуры попытки невролога Владимира Бехтерева материалистически обосновать монистическое понимание энергии Оствальда в духе ленинского эмпириокритицизма, при этом, с одной стороны, речь шла об энергетическом понятии производства, охватывающем все виды человеческой деятельности, а с другой – о «коллективной рефлексологии», с помощью которой Бехтерев, продолжая Лебона, Тарда и Дюркгейма, пытался подобрать ключ для понимания энтузиазма, охватившего революционные массы. Автор еще одной статьи данного блока, Константин Каминский, обращается к энергетической рефлексии и практике Андрея Платонова, рассматривая ее на фоне проблематики трудов Владимира Вернадского о ноосфере Земли и роли человеческого фактора как геологической силы, ее преобразующей. Революционные проекты ранней советской культуры, радикально меняющие и характер энергетической системы, и энергетические технологии, обеспечивающие связь между производительными силами и производственными отношениями, во многом антиципируют современные теории антропоцена и экологическую чувствительность, развивающуюся перед лицом глобальных экологических вызовов.
Завершается сборник концептуально важной работой Джона Урри, который рассматривает понятие энергии в связи с ее материальным и экономическим бытованием в формах угля, нефти или силы воды, критически указывая на соответствующий пробел в социальных науках и демонстрируя, как в зависимости от материальной базы производства энергии из угля или нефти возникают те или иные социальные, политические и экономические структуры. На этом фоне им выстраиваются возможные проекты преодоления глобальных энергетических проблем. Таким образом, начав с семантических приключений, претерпеваемых понятием энергии в эпоху Нового времени, мы вновь возвращаемся к энергии как материальному свойству природных ресурсов, использование которых вновь возвращает нас к общественно-политическим импликациям, сконцентрированным в этом феномене, соединяющем физическое и социальное.
Перевод с немецкого Иннокентия УрупинаРАЗДЕЛ 1
Горизонт истории понятия
Макс Яммер 35
Понятие силы. Исследование оснований динамики. Формирование научных понятий 36
Цель настоящего исследования – представить историческое развитие понятия силы в физической науке. Хотя это понятие признано одним из основных и первичных в физической теории, прежде оно никогда не становилось предметом всестороннего исторического анализа и критического рассмотрения. Как правило, его считают не нуждающимся в объяснении, так как на практике оно применяется вполне успешно. В учебниках и даже в объемных монографиях нет почти никакой информации о природе этого понятия. Огромное разнообразие его практических применений полностью игнорирует проблемный характер понятия силы.
Часто говорят, что ученому-естественнику нет дела до истории идей, которые он применяет в своей работе. Но учитывая, насколько важной для современной физики стала проблема возникновения научных понятий, этот аргумент почти утратил свое значение. Некогда проблемой формирования научных понятий интересовались лишь антиквары от истории науки и педанты от эпистемологии. Для современной науки она стала жизненно важной.
Изучать исторические аспекты того, как формировались понятия в физической науке, нелегко. Для того чтобы хорошо ориентироваться в источниках, требуется глубокое историческое и филологическое образование, а чтобы их критически сравнивать, интерпретировать и оценивать их значимость для науки, необходимо владеть теорией физики.
При изучении того, как развивалось то или иное научное понятие, возникает серьезная проблема. Она состоит в том, что определение этого понятия неизбежно будет туманным. В науке понятие может быть строго закреплено только с помощью точного определения. Но если взглянуть на определение исторически, перед нами лишь один из поздних этапов развития данного понятия. Свести понятие исключительно к его современному определению значило бы игнорировать значительную часть его истории. Даже после того как оно заняло точно определенную позицию, история понятия еще не закончена – наиболее полное его значение проявляется только в контексте концептуальной структуры, в которую оно встроено, а этот контекст постоянно расширяется и изменяется. Однако с позиции истории идей не видна самая важная и интересная часть биографии понятия, а именно тот период, когда оно наиболее активно развивается и способствует формированию научной мысли. Таким образом, изучающим историю научного понятия приходится как-то реагировать на то, что определение обсуждаемого предмета туманно. Здесь в равной степени опасно устанавливать слишком широкие или слишком узкие рамки.
Современная физика не оставляет надежды тому, во что верили большинство авторитетных ученых в прошлом столетии. От амбиций, что физика сможет создать абсолютно точный слепок реальности, приходится отказаться. У науки в ее сегодняшнем понимании менее амбициозная и более конкретная цель. Описать определенные феномены опытно постигаемого мира и установить общие принципы того, как их можно предсказать и «объяснить», – вот две ее основные задачи. Под «объяснением» здесь, скорее, имеется в виду соотнесение этих феноменов с общими принципами. Чтобы успешно решить эти задачи, наука использует понятийный аппарат, то есть систему терминов и теорий, которые репрезентируют или символизируют данные, полученные через чувственный опыт, – прикосновения, цвета, тона, запахи и то, как они могут быть связаны между собой. Этот аппарат состоит из двух частей: 1) сеть понятий, дефиниций, аксиом и теорем, составляющих гипотетико-дедуктивную систему (в математике ее примером является евклидова геометрия), и 2) отношения, в которых элементы этой системы состоят с определенными феноменами чувственного опыта. Через эти отношения, которые можно назвать «правилами интерпретации» или «эпистемологическими соотношениями»37, устанавливается ассоциативная связь между, например, черным пятном на фотографической пластинке (чувственное ощущение) и спектральной линией определенной волновой длины (концептуальный элемент или конструкт в рамках гипотетико-дедуктивной системы38). Другой пример – ассоциативная связь между щелчком усилителя на счетчике Гейгера и проходом одного электрона через счетчик. Физика нуждается в обеих сторонах этой связи именно потому, что она представляет собой теоретическую систему предположений об эмпирических феноменах. Гипотетико-дедуктивная система в отсутствие правил интерпретации быстро выродится в спекулятивный анализ, который нельзя ни проверить, ни верифицировать. Сеть эпистемологических соотношений без теоретической надстройки, выведенной путем дедукции, останется бесплодным перечнем фактов, который не будет иметь ни предсказательной, ни объяснительной силы.
Принятие правил интерпретации создает некоторую произвольность внутри системы как целого, допуская в ее рамках некоторую предрасположенность в отборе понятий. Другими словами, произвольные модификации в терминологических соответствиях определенным ощущениям можно компенсировать, соответствующим образом изменяя эпистемологические соотношения, но не отрывая их от материальной реальности. Именно из‐за этой произвольности научные понятия воспринимают как «свободные творения человеческого разума», которые «не однозначно определены внешним миром, как это иногда может показаться»39.
Когда наука пытается создать логически последовательную систему мысли, которая бы соответствовала хаотическому разнообразию чувственного опыта, выбор основных понятий определяется – хотя и неоднозначно – их способностью создать базис, на основании которого можно объяснить наблюдаемые факты. Во-первых, сама неожиданная последовательность экспериментов и наблюдений вносит в систему элемент случайности. Как недавно заметил Джеймс Брайант Конант, «кажется ясным, что развитие современных научных идей могло пойти по несколько другому пути, если бы хронологическая последовательность некоторых экспериментальных открытий оказалась иной. В определенной степени эту хронологию можно считать чисто случайной»40. Во-вторых, специфический характер фундаментальных концепций или базисных понятий в некоторой степени определяется общими представлениями, которые, в свою очередь, мотивированы подсознательными мотивами. Важная задача для историка науки – изучить состояние мысли, преобладающее в определенный период, и выделить в нем вненаучные элементы, ответственные за итоговый отбор понятий, которым суждено играть роль фундаментальных в конструируемом понятийном аппарате. Изучая историю науки ретроспективно, часто можно видеть, как на определенном этапе развития физики в целом удовлетворительно использовались (или могли использоваться) альтернативные друг другу понятия.
В качестве иллюстрации приведем важный для нашей темы пример: джайнистскую физику в древнеиндийской философии41. Джайнисты – последователи Джины Махавиры (известен также под именем Вардхамана), старшего современника Будды, – создали реалистичную и релятивистскую концепцию атомистического плюрализма (anekāntarāda). В отличие от западной науки, для которой, как мы увидим позже, понятие силы является фундаментальным, в данной системе не существует этого понятия. В джайнистской физике категория ajīva включает материю (pudgala), пространство (akāshā), движение (dharma), покой (adharma) и время (kāla). Dharma и adharma означают условия движения и покоя. Бесформенные и пассивные, они не порождают движение и не прекращают его – они лишь помогают и способствуют движению или покою, подобно тому как для движения рыб нужна вода, а для покоя предметов – земля, на которой они лежат. «Действие» (kriya) и «изменение» (parināma) возникают благодаря «времени», при этом оно само по себе не вызывает движение, как это делает понятие силы в западной мысли. Есть и более привычный (хотя и не столь показательный) пример концептуальной схемы, где понятие силы не задействовано. Это, разумеется, декартова физика. Эта система, по крайней мере в том виде, как задумывал ее создатель, основывалась исключительно на геометрических и кинематических представлениях, а также на идее непроницаемости.
Ученый постоянно вынужден пересматривать свою концептуальную схему в силу множества факторов. Если не брать во внимание общекультурные мотивы, которые отсылают нас к конкретным философским, теологическим или политическим идеям, существуют три наиболее важных методологических фактора, требующих пересмотра схем. Во-первых, это результаты новых экспериментов и наблюдений, из которых выводятся новые, ранее неизвестные следствия. Во-вторых, это возможные противоречия в логической сети выводимых понятий и их взаимосвязей. Третьим фактором является поиск наибольшей простоты и элегантности для выражения системы понятий. В большинстве случаев необходимо сочетание двух факторов (а иногда и учет всех трех), чтобы произошла перестройка или фундаментальная смена понятийной структуры. Хорошо известный пример – эксперимент Майкельсона – Морли, который доказал, что скорость света не зависит от движения Земли. Этот феномен был ранее неизвестен и, более того, несовместим с господствовавшей в конце XIX века теорией эфира. Его можно было встроить в эту концептуальную схему с помощью некоторых допущений («лоренцево сокращение длины»), но это серьезно усложнило бы схему и тем самым нарушило принцип простоты. Искусно переосмыслив понятия времени и пространства в рамках частной теории относительности, Эйнштейн, по существу, пересмотрел понятийный аппарат классической механики.
Конечно, не всегда этот аппарат приходится модифицировать столь радикальным способом, как это сделал Эйнштейн. Для историка научных понятий очень важным элементом системы является процесс «переопределения» понятия, который изменяет его статус и положение в логической структуре данной системы. Классический пример такого переопределения можно найти в истории понятия температура. Изначально она считалась качественным выражением ощущения теплоты, а затем стала количественным показателем состояния материи, которое измеряется ртутным термометром по определенной шкале. Когда в ходе дальнейшего развития этого понятия стало очевидно, что «температура» в таком понимании зависит от свойств термометрического вещества, понятие еще раз переосмыслили, введя так называемую «абсолютную» термодинамическую шкалу. Так температура оказалась частью более обширной и понятной сети отношений, став неотъемлемой частью кинетической теории материи. Очевидно, что в результате этого процесса исторически и психологически более позднее понятие (в случае «температуры» – это кинетическая энергия молекулы газа) рассматривается в качестве логически более раннего, более систематичного и более фундаментального.
Понятия, которые ранее считались базовыми, могут в результате переопределения превратиться в производные. Хотя в истории научных понятий это случается не так часто, возможно и обратное: понятие, изначально возникшее как производное, на более позднем этапе, после переопределения другого понятия может быть выбрано в качестве базового. В классической механике скорость обычно считается производным понятием – отношением расстояния s ко времени t или пределом отношения (как в формуле Δs/Δt). Здесь расстояние и время рассматриваются как базовые понятия. Тем не менее вполне возможно было бы создать непротиворечивую теорию движения, в основе которой лежали бы базовые понятия времени t и скорости v. Скорость бы при этом измеряли напрямую неким аналогом спидометра, а расстояние считали бы производным понятием и вычисляли как произведение скорости и времени s = t · v, или по более общей формуле s = ∫v ∙ Δt. Современная астрономия, по крайней мере отчасти, последовательно поступает именно так. Связь этих понятий с измерениями материального мира, разумеется, не создает никакого препятствия: как ясно показала теория электромагнетизма, такая связь абсолютно произвольна и может полностью соответствовать понятиям, отобранным в качестве базовых.
Что касается понятия силы, оно возникло по аналогии с мускульным усилием человека, его духовным влиянием или силой воли. В дальнейшем его распространили на неодушевленные объекты как проявление силы, заключенной во всех материальных предметах. Пропуская несколько промежуточных стадий, можно сказать, что понятие силы стало ключевым для определения «массы», а оно, в свою очередь, определило понятие «импульс». В дальнейшем классическая механика переопределила силу как производную по времени от импульса, тем самым (по крайней мере, на первый взгляд) уничтожив все следы ее прежних анимистических определений. Наконец, «сила» стала полностью относительным понятием, почти готовым к тому, чтобы полностью исчезнуть из понятийной структуры.
Здесь можно задать серьезный вопрос: не означает ли постоянное переопределение, что понятие последовательно наделяют новым значением, и в итоге уже нельзя утверждать, что на разных стадиях его жизни перед нами одно и то же понятие? Сторонник операционального подхода, утверждая, что определение понятия идентично процедуре измерения соответствующего свойства объекта, не согласился бы, что все эти стадии – этапы жизни одного и того же понятия. С другой стороны, реалист или приверженец теории конвергенции42, для которых научное утверждение – это не просто комплекс условностей, вероятно, не стал бы возражать. Для историка науки это всего лишь проблема формулировки. Для него проблема реальности стоит не на первом месте, то есть вопрос о том, насколько внутренняя структура гипотетико-дедуктивной модели науки отражает или в каком-либо виде передает реально существующее основание, на котором покоится недифференцированный спектр чувственных ощущений. В этом смысле специалист по истории идей находится в том же положении, что и ученый-естественник в лаборатории. Для него совершенно не важно, что он на самом деле исследует – развитие одного понятия или цепи взаимосвязанных понятий. Другими словами, верно ли то, что разные определения охватывают одно и то же определяемое (definiendum) как часть реальности, существующую вне нашего сознания, – или верно, что каждое новое истолкование понятия нужно считать отдельным элементом логической системы? Эту проблему ученый предлагает решать метафизикам.
Даже если использовать так называемый «формальный»43 и контекстуальный метод дефиниции, при котором исследовать процесс формирования понятий становится еще сложнее, позиция ученого-естественника остается такой же. В этом случае понятие рождается из постоянства определенных отношений в рамках эксперимента. Эти отношения фиксируются в виде некоторого показателя, которому можно дать определенное название. Хороший пример – известное определение массы по Э. Маху: когда два тела, обозначенные как 1 и 2, действуют друг на друга при одинаковых внешних условиях, постоянное обратное отношение между их взаимно вызываемыми ускорениями (– а2 / а1) можно определить как «относительную массу» этих двух тел, или, точнее, как отношение массы первого тела к массе второго. Если второе тело стандартно («стандартная масса»), то «относительная масса» становится «массой» тела а1. Именно это сложное определение массы и оказывается очень важным для современной физики – в квантовой механике оно необходимо, чтобы определять массу элементарных частиц, а в теории относительности – чтобы доказать зависимость массы от скорости. Более раннее и простое базовое понятие «количества вещества», измеряемого в молях, – определение массы по Кеплеру, Галилею и отчасти даже по Ньютону, хотя все они более тесно связаны с чувственным восприятием, но едва ли применимы в ситуации, где начинает работать более детальное, реляционное понятие массы по Маху. Важно заметить, что формальный метод дефиниции не обязательно переопределяет понятие. Этого, например, не происходит с понятием «энтропии».
Вычленить ядро понятия на протяжении нескольких стадий его развития может оказаться очень сложной задачей. Легко проследить, как менялось понятие электрона с того времени, как Дж. Стоуни ввел этот термин в 1874 году44. Легко показать, как трансформировалось содержание этого понятия, пока оно не приняло современное значение – одна из элементарных частиц в квантовой механике. Намного труднее решить, является ли средневековое понятие impetus (импульса, толчка) предшественником понятия «импульса» в классической механике. Еще труднее понять, выводится ли понятие силы по Ньютону из аристотелевской идеи dynamis (возможности-способности).



