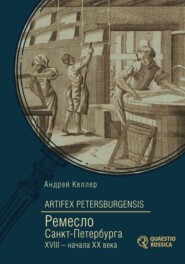
Полная версия:
Artifex Petersburgensis. Ремесло Санкт-Петербурга XVIII – начала XX века
Была ли экономическая полиморфность дореволюционной российской экономики, и ремесла в том числе, «проклятым» наследием феодализма и признаком «отсталости»? Или в ней заключалось разнообразие экономических возможностей, дававших альтернативные варианты развития не только к обществу массового потребления и массового производства, генерирующих такие хвосты отходов, с которыми не способны справиться все экосистемы Земли вместе взятые, но к более гибким производственным сетям с интегрированными малыми и средними предприятиями, сочетающими в себе современные технологии и уникальные компетенции ручного труда? Не пора ли поменять вектор развития экономики в сторону социально ориентированного предпринимательства, МСП, которые смогут стать именно тем драйвером «зеленого» роста и инструментом развития в рамках концепции устойчивого развития и зеленой экономики157?
В современной литературе считается опровергнутым тот факт, что цехи и их (относительная) монополия сдерживали промышленное развитие даже в такой классической стране капитализма как Англия158. Более того, цехи и гильдии зачастую способствовали развитию (крупной) промышленности как в домодерной, так и в модерной Европе, являясь важным (универсальным) инструментом профессиональной организации и повышения качества продукции также и в других регионах мира: в Китае, Турции, Египте, странах Средней Азии, Японии159. Иными словами, социальный капитал таких гибридных образований как цехи, помогал формировать человеческий капитал160. К этим выводам помогли прийти новые подходы в экономической, социальной, институциональной истории и истории труда161.
Что было бы с промышленной революцией, если бы мастера не построили машин, благодаря которым она произошла? Петр Кропоткин точно подметил эту связь, когда писал о ситуации с квалифицированными мастерами в Англии, после упадка городов и ремесел в средневековой Европе: «Что сталось с брюггскими полотнами, с голландскими сукнами? Куда девались те кузнецы, которые умели так искусно обращаться с железом, что чуть ли не во всяком европейском городке из–под их рук выходили изящные украшения из этого неблагодарного металла? Куда девались токари, часовщики, те мастера, которые создали в средние века славу Нюрнберга своими точными инструментами? Вспомните хотя бы Джеймса Уатта: в конце XVIII в. он напрасно искал в продолжение тридцати лет людей, которые сумели бы выточить точные цилиндры для его паровой машины, его мировое изобретение в течение тридцати лет оставалось грубой моделью, за неимением мастеров, которые могли бы сделать по ней машину»162.
В данной работе мы попытаемся изменить «оптику», с помощью которой рассматривается объект исследования, чтобы максимально приблизить его, а приблизив, получить более полную картину жизненного мира (цехового) ремесленника, во избежание искажения картины социальной и экономической жизни российского ремесла163. Авторский взгляд на российские цехи близок к выводам К. А. Пажитнова, Ф. Я. Полянского и А. И. Копанева, не отрицавших целесообразность введения цехов, но показывавших их своеобразие в России164. В работах этих авторов цехи рассматриваются в более длительной исторической перспективе с момента их введения до начала XX века, а значит, возрастает возможность адекватной оценки их развития на российской почве как важного самобытного социально–экономического института. Именно поэтому Пажитнов критиковал В. Лешкова и М. В. Довнар–Запольского за их попытку доказательства существования уже в Древней Руси организаций, подобных цеховым корпорациям ремесленников на Западе165. Иными словами, цехи были необходимым институтом развития промышленности, отсутствовавшим на российской почве, который поэтому был введен по образцу западноевропейских.
Принципиальный интерес для данного исследования представляют работы зарубежных коллег по истории ремесла. Отсчет современной историографии ремесла в Германии можно вести с 1950–х годов. Одним из первых авторов, поднявших историю ремесла на качественно новый уровень, является Вильгельм Вернет, позиционировавший ее как самостоятельную отрасль знаний исторической науки, вводя соответствующую терминологию и методику166. Карл Фридрих Вернет продолжил работу по методологическому и теоретическому обоснованию истории ремесла как самостоятельной отрасли в исторической науке и определил более четкие границы между крупной и ремесленной промышленностью167. Ф. Зак описал процессы интеграции и приспособления ремесла во время индустриализации, а Х. Клейнен – одну из его форм – побочную торговлю, помимо продуктов собственного производства168. В 1970–1980–е гг. появляется целая плеяда немецких историков, закрепившая позиции социальной истории немецкого ремесла: В. Абель, Е. Виссель, К. Х. Кауфхольд, Ф. Ленгер, Р. С. Элькар, И. Эмер, У. Энгельгардт и др.169 Начиная с 1990–х годов появляется ряд публикаций, задавших новый вектор в исследованиях170. Ремеслам булочников, портных и прочим были посвящены отдельные монографии171. Актуальными остаются исследования ремесла в контексте индустриализации Нового и Новейшего времени. Истории ремесла и цехов посвящены работы британских, бельгийских и нидерландских историков. Де Мунк и Соли отмечали в совместной статье, опубликованной в сборнике статей, вышедшем в под редакцией Б. д. Мунка, С. Л. Каплана и Г. Соли в 2007 г., что дополнительное конкурентное преимущество создавал гораздо более дешевый человеческий капитал в Западной Европе, чем в Азии172.
Важной инновацией цеховых столяров–мебельщиков Антверпена в XVI – XVII в. де Мунк называет контроль качества, благодаря чему появляется сама категория качества как таковая, и аксиологический фактор. Ученый релятивирует такие понятия как исключительность, консерватизм и наследственность, бывшие традиционно основными негативными характеристиками цехов173. Основной же фундаментальный вопрос сборника статей, касающийся всего ремесла доиндустриального периода, ставит резюмируя в заключительном эссе С. Л. Каплан: «[…] если повсюду находятся доказательства, указывающие на умаление значения цехов во многих областях, включая ученичество, почему эти институты были так важны, а ремесленники настолько решительны в своем желании присоединиться к ним? Традиционная историография, основанная главным образом на нормативных источниках, таких как уставы цехов, принимала цехи как фундаментальную экономическую, социальную и политическую структуру организации труда домодерного типа, но в последнее время критически настроенные историки (такие как Майкл Соненшер, Филипп Минар, Стивен Каплан и [Джеймс Фарр]) указывают на то, что более широкий взгляд на ремесленный труд заставляет нас признать факт существования огромного поля трудовой деятельности, выходящей за рамки компетенций цехов»174.
В 2000–е годы происходит окончательный концептуальный поворот в рассмотрении истории ремесла и цехового ремесла, в частности, когда преодолеваются хронологические рамки Средних веков и разрабатываются сюжеты Нового времени. В истории ремесла, как самодостаточного и уникального рода человеческой деятельности, не исчерпывающейся исключительно производственными и экономическими практиками, рассматривается не только производство как таковое, но также аспекты образа и качества жизни, социальных и культурных практик. Традиционная история институтов и права дополняется историей конкретно взятого человека, формами коммуникации и взаимодействия различных социальных: корпоративных и государственных, институтов, стратегиями мастеров, подмастерьев и учеников при достижении своих личных целей175. Это позволяет понять, что цехи служили не столько преградой в развитии промышленности, сколько трансмиссионным механизмом, позволявшим смягчать противоречия промышленного развития, решать социальные вопросы и сдерживать какое–то время напор крупного капиталистического производства XIX века, отметавшего, как ненужные, социальные нормы труда и общежития. В такой перспективе роль институций и «роль личности» в истории ремесленного сообщества уравновешиваются.
Цехи как новый институт в России могут позиционироваться с этой точки зрения как креативный институт, в рамках которого существуют инновативные производства, приобретшие сегодня новую актуальность в связи с концепциями развития «зеленой экономики»176. «Методологический индивидуализм» признает реально действующими участниками социального взаимодействия не группы или организации, а индивидов или агентов социальности. В результате сужения поля индивидуального выбора меняются поведенческие предпосылки, определяющиеся факторами ограниченной рациональности и оппортунистического поведения177. Этот тренд сегодня не случаен как с аксиологической: небольшие, локальные, традиционные предприятия, так и с экономической точки зрения, если принять во внимание тот факт, что согласно исследованию Керстин Демон, по результатам которого 21 октября 2010 г. в газете Financial Times Deutschland была опубликована статья под названием «Непримечательные звезды», 500 самых успешных малых и средних семейных предприятий Германии, не становящихся сознательно акционерными обществами, создают абсолютное большинство рабочих мест и более рентабельны по сравнению с «промышленными гигантами», зарегистрированными на фондовой бирже во Франкфурте на Майне178.
Актуализация исторических знаний в современном контексте в сочетании с методологическим поворотом дает возможность искать альтернативные к традиционной истории модернизации пути. Таковым нам видится направление истории ремесла, изучающее малые формы успешного ремесленного предпринимательства, которые не должны заменяться автоматически массовым машинным производством, но, напротив, гармонично дополнять его. Методика, примененная вышеназванными авторами, позволяет переосмыслить и оценить по–новому историю развития малого и среднего ремесленного производства Санкт–Петербурга, и России в целом.
В 1985 г. немецкий историк Томас Штеффенс отмечал в своей диссертации о рабочих Петербурга начала XX в., что ремесленники, в том числе и цеховые, совершенно забыты историками: они находились, по его словам, «im toten Winkel»179. И это можно было сказать не только о петербургском ремесле. Представление о цеховом ремесле как об «экстравагантном, тираническом и обскурантистском», названном так испанским экономом Форундой в 1780–х годах, разделялось не только учеными мужами эпохи Просвещения, но и историками недалекого прошлого. Такой негативный взгляд был результатом понимания модернизации как замены традиционных «отживших» «старых» институтов «современными» новыми согласно модели поступательного развития от «традиционных» мелких форм хозяйствования к более «прогрессивным» индустриальным и поточным180. В экономической науке для доказательства такого постулата успешно применяется метод количественного анализа, основанный на моделях роста. Для описания (микро)истории ремесла такого инструментария недостаточно, так как верификация производится не только с помощью количественных индикаторов роста экономики, но и качественных – качества жизни и окружающей среды. Поэтому критериями оценки того или иного феномена ремесла являются как институт и структура, так и событийность и интерактивность, что позволяет решить проблему высокого уровня сложности в больших моделях. Игровые модели в анализе экономического поведения помогают, отчасти, понять сложность порой непредсказуемого поведения181.
Рассматривая историю цехов в контексте взаимодействия традиций и инноваций, в особенности того факта, что культурно–антропологический метод стал активно применяться историками цехового ремесла в 1990–е годы, можно говорить о смене парадигмы, приведшей к пересмотру роли цехов в развитии ремесла не только в эпоху протоиндустриализации, но и позднее. Назовем только две публикации последних лет – сборник статей, вышедший под редакцией Гейнца–Герхарда Гаупта в 2002 г. с характерным названием «Конец цехов: сравнительный анализ института цехов в Европе» и книгу Р. Сеннета «Ремесло», увидевшую свет в 2007 г.182 Они подводят символическую черту под развитием традиционной историографии, занимавшейся историей «институтов» и интересовавшейся в основном правовой стороной вопроса. Сеннет показывает в своей книге ценность ремесленного труда в контексте современной промышленной цивилизации и самоценность человека производящего (Homo faber). По его мнению, ремесленный труд может вернуть отчужденному в процессе крупного промышленного производства человеку радость и удовлетворение от труда и от произведений, возникших в результате его умений и навыков, его креативности183.
Р. Сеннет предлагает уделить ремеслу более пристальное внимание как инструменту гармонизации человека и труда в разобщенном и социально холодном обществе: «Гордость за свой труд лежит в основе любой ремесленной деятельности, умений и знаний мастера, поскольку награду он получает за свое искусство и увлеченность»184. Такая работа наполняет мастера удовлетворением от сделанного и чувством собственного достоинства: сосредоточение, размышления, созерцание, интуиция, – вот элементы новой («старой», традиционной) трудовой и жизненной этики, которую обосновывает своим мáстерским трудом Сеннет185.
Кроме упомянутых авторов, работы К. Девидса, К. Лиз, Я. Лукассена, М. Прака, Г. Ричардсона, С. Черутти, С. Р. Эпштейна и др. в том же направлении позволяют посмотреть на цехи как институты сохранения корпоративных, социальных и профессиональных традиций, способствовавших социальной стабильности, становлению и развитию городов, принятию и развитию технологических инноваций186. Их эволюция в XIX – XX вв. в ремесленные палаты и союзы в Германии показала потенциал развития данного института, возникшего в Средневековье и пережившего в премодерных обществах процессы адаптации и трансформации. Основной упор в исследованиях делается не на институте как таковом, а на практиках исторических акторов и феномене «мастерства» как основе любого профессионализма. Цехи у этих авторов рассматриваются как институт, создавший предпосылки и условия для развития городов, капитализма и технологической революции позднего Средневековья и раннего Нового времени, а также эпохи индустриализации в XVIII – XIX вв. Отказ от однолинейной проекции западноевропейского общества и цехов на российский кейс делает возможным анализ российского общества имперского периода без таких искусственных понятий как «третье сословие» и «гражданское общество».
В 1981 г. Франклин Мендельс ввел в научный оборот термин «протоиндустриализации», отчасти объясняющий условия возникновения индустриализации задолго до ее появления187. Мендельс переместил центр внимания с целых стран на отдельные сельскохозяйственные регионы с развитым ремесленно–промышленным производством, что помогло переосмыслить их роль как более мелких единиц индустриализации. Применительно к России, Р. Л. Рудольф в 1980–е годы продемонстрировал в серии статей, что развивавшаяся в России протоиндустрия в виде кустарных промыслов не привела к ослаблению крепостной системы188. Сам Мендельс не абсолютизировал свою концепцию и говорил о том, что «протоиндустриализация» относится к региональному росту рыночно ориентированного сельского хозяйства и промыслов в XVII – XVIII веках на протяжении десятилетий, предшествовавших промышленной революции, а в России до второй половины XIX в. По его мнению, «протоиндустриализация никогда не представлялась "достаточной" причиной промышленной революции. При первом поверхностном знакомстве с экономической историей последней сразу же станет понятно, что было много регионов Европы, где ручное ткачество и другие крестьянские промыслы исчезли, так и не став основой для фабричной промышленности»189. Можно принять за рабочую концепцию Клауса Гествы о том, что примерно с середины XVII в. – до конца 1860–х годов в России длился период протоиндустриализации, когда создаются условия для последующего промышленной революции в последней трети XIX в.190.
Ремесло может рассматриваться как уравновешивающая альтернатива излишнему технократизму, индустриализации и стандартизации, безусловно имеющим свои сильные стороны. Ввиду когнитивной и терминологической специфики теории модернизации, ремесло в ее рамках не может быть рассмотрено как полноценная экономическая деятельность в прошлом (цеховое и городское ремесло, промыслы), настоящем (инновативное малое производство) и будущем в рамках стратегического прогнозирования ГСВМП (small manufacturing network) на основе положительного исторического опыта. Противоположным направлением в исторической науке является история ремесла, не как традиционного института экономической и промышленной деятельности рудиментарного характера, а как элемента современного производства, где ремесленный мастер или специалист играет роль самодостаточного производителя материальных и идеальных ценностей191. Данный прием не является «осовремениванием» ремесла, но служит получению иной перспективы («оптики») и контекста для переосмысления движения ремесла от «примитивной ручной работы» к высокотехнологичному узкоспециализированному производству. Ремесленник эволюционировал в ходе промышленной революции так же, как мануфактуры, заводы и фабрики, только с иным результатом.
Принципиально важными в данном случае являются размышления Сеннета о ремесле как универсальном виде человеческой деятельности, являющейся базисной составляющей любой человеческой культуры, ее существенным признаком с тех пор, как философы открыли такие понятия как «удовольствие», «игра» и «культура»192. Сеннет расширяет понятие ремесленничества или мастерства и говорит о ремеслах по деревообработке так же, как и о военной муштре или солнечных батареях в контексте профессионализма: «"Ремесленничество" гораздо более широкое понятие, обозначающее не только квалифицированный ручной труд. Оно распространяется и на компьютерного программиста, и на врача, и на музыканта»193. Ученый радикально расширяет область «ремесленничества», обращаясь к стремлению человека, и в особенности ремесленника, делать качественную работу194. Действительно, можно сказать, что ремесло – делать что–то руками, является антропологическим признаком, где тонкая связь между руками и головой рождает «интеллигентные руки», а навыки ремесленного мастера являются незаменимыми в любой творческой профессии.
По поводу ценности ремесленного труда, в свете современной промышленной цивилизации, Сеннет говорит, что «"ремесленничество" олицетворяет образ жизни, который с виду ослабевает с появлением индустриального общества, но это всего лишь заблуждение. Ремесленничество являет собой прочный человеческий импульс, основанный на желании делать работу хорошо, ради нее самой. […]; качество воспитания улучшается, когда оно практикуется как квалифицированное ремесло (мастерство. – А. К.), равно как и гражданское общество. Во всех этих областях мастерство фокусируется на объективных стандартах, на самой сути. Тем не менее, социальные и экономические условия часто препятствуют проявлению дисциплины и самоотдачи ремесленника: школы не всегда могут быть инструментами для хорошей работы, а требования на рабочих местах не всегда могут стать по–настоящему адекватными стремлению к качественной работе. И, хотя ремесленничество может вознаградить человека чувством гордости за выполненную работу, эта награда не так легко достижима»195.
Мануальная активность рассматривается Сеннетом не в отрыве, а в сочетании с интеллектуальной деятельностью и эмоциональной сферой, благодаря чему повышается ее значимость. Вполне логично, что ученый обозначает человека, обладающего такими способностями, универсальным понятием «Homo faber»196, объединяющим в себе как человека креативного (Homo creativicus), так и человека экономического (Homo economicus)197. Ремесленник фокусирует свое внимание на объективных стандартах, на самой вещи, в отличие от рабочего, занятого определенной операцией (операциями). Поэтому неправомерно говорить о «конце истории» ремесла с началом индустриальной революции: «Ремесленничество просто остается недопонятым, […] если оно приравнивается лишь к ручному мастерству некоего плотника. Немцы используют слово Handwerk, французы слово artisanal, чтобы обозначить работу ремесленника. Английский язык может быть более инклюзивным, как в случае с термином государственное ремесло. Антон Чехов применил русское слово мастерство в равной степени как к своему ремеслу врача, так и писателя. Я хочу, во–первых, рассмотреть все такие конкретные практики, как, например, в мастерских (рабочие пространства), где я смогу исследовать чувства и идеи. Во–вторых, изучить то, что происходит, когда руки и голова, техника и наука, искусство и ремесло разделены. Я покажу, как в этом случае страдает голова; как в прямом, так и в переносном смысле»198.
Многие историки XIX и XX вв. решили, что ремесло вместе с цехами, как антипрогрессивный институт, приговорено исчезнуть с исторической сцены и перестали обращать на них пристальное внимание, обходясь общими замечаниями об их несвоевременности199. Но именно цехи были институтом, где существовали основы демократических практик, которые, выходя за пределы цехов, способствовали активному участию ремесленников в жизни городов и их самоуправлении200. Как нам видится, причина трудности возродить сегодня традиции общественного самоуправления XIX – начала XX вв. лежат именно в уничтожении городского, в том числе и корпоративного, самоуправления в российских городах и особенно в Санкт–Петербурге.
Обращаясь к политической антропологии, можно сказать вместе с Жоржем Баландье, что традиционные структуры и институты целесообразно рассматривать не как препятствия на пути в Новое время, которые должны были уйти вместе с Ancien Régimes. Понять их роль во влиянии на формы социальной жизни сегодня – значит уравновесить соотношение традиции и инновации201. Традиция, говорит Баландье, может быть использована в целях реставрации, или она может получить новую функцию в изменившемся контексте, вести к акциям сопротивления или к оправданию современности202. Важно понять, почему многие русские мастера поддерживали цеховую форму организации ремесла во второй половине XIX в., когда многие «прогрессивные» деятели списали ее как отживший институт. Потому что цехи превратились в социальный институт или корпорацию, где профессионалы своего дела нашли, выражаясь образно, свой социальный дом.
Можно выделить одну из ярких черт Петербурга, наложивших особый отпечаток на большинство его жителей, в том числе и на ремесленников, – это исключительно многообразное культурное пространство, бывшее, в какой–то степени, отражением Западной Европы и являющееся одной из главных его ценностей. Как правило, из числа иностранных ремесленников на протяжении почти всего XIX века, особенно в первой его половине, рекрутировалось значительное число представителей ремесленной элиты, что говорит об их долгом доминировании над российскими коллегами203.
В смешении и противостоянии идентичностей жителей Петербурга рождалась идентичность петербуржца, которую можно реконструировать с помощью понятия остранения В. Б. Шкловского, помогающего добиться эффекта нового видения ремесла и ремесленника204. Данный прием автор применил в отношении «маленького человека» Акакия Акакиевича Башмачкина – героя повести Н. В. Гоголя «Шинель», в одной из своих статей205. Это понятие актуализируется и конкретизируется в историческом контексте с помощью термина «феномен Башмачкина» (или «эффект титулярного советника»), введенного уральскими историками Еленой Алексеевой, Дмитрием Рединым и их французской коллегой Мари–Пьер Рей206. Попробуем расширить его методологические границы с помощью теории Шкловского: «В 1916 году, – писал он, – появилась теория "остранения". В ней я стремился обобщить способ обновления восприятия и показа явлений»207. Ученый так определил «приём остранения»: «не приближение значения к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание "ви′дения" его, а не "узнавания"»208. На примере Л. Н. Толстого, Шкловский объясняет, что «прием остранения […] не называет вещь ее именем, а описывает ее, как в первый раз виденную, а случай – как в первый раз происшедший, при чем он употребляет в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а называет их так, как называются соответственные части в других вещах»209. А вот другая формулировка: «Обновление значения [происходит] через перестановку признаков. Разгадывая, мы располагаем признаками и радуемся тому, что раньше мы не знали смысла отдельности. Собранная вещь является вещью узнанной. Загадка является предлогом к наслаждению узнавания. Но в загадке обычно есть две разгадки. Первая – прямая, но неверная. Вторая – истинная»210.
Чтобы получить феномен Башмачкина в нашем случае, нет необходимости переноситься в провинциальный город N–ск, в котором титулярный советник из Петербурга становится представителем местной элиты211. Возможно сменить контекст в ходе мысленного эксперимента, не покидая петербургской обстановки с жестокосердными коллегами – рядовыми канцеляристами, получающими удовольствие от злой забавы: сыпать клочки рваной бумаги на голову несчастного безобидного Башмачкина. Достаточно представить последнего в роли самозабвенного художника, всецело поглощенного своим делом, и он превращается из забитого копииста в непревзойденного мастера искусства каллиграфии: «Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, – нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой–то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его»212.



