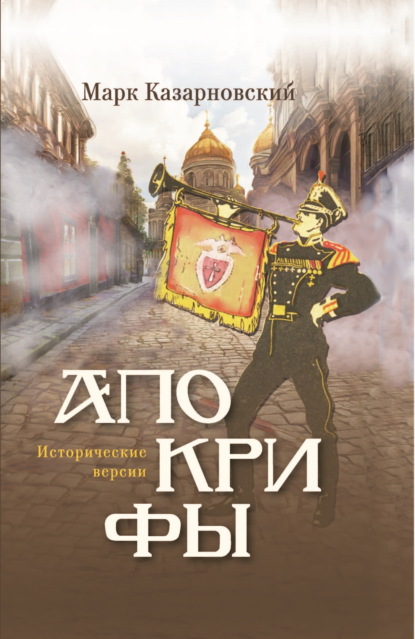
Полная версия:
Апокрифы. Исторические версии
Во мне проснулся мальчишка. Я решил дверь эту открыть и подземелье исследовать. В поисках, естественно, церковных ценностей.
Вторая причина моего интереса к сельцу Махра – проживающая здесь многие годы старая дама. Она была француженкой, и меня все интересовало: как это француженка, а живет вот в Богом забытом месте. Одна. А кто помогает?
Когда-то Махра была зажиточным селом. Через полноводную реку Махрянку сплавляли грузы. И климат был подходящ – кормилось село огородами да другим нехитрым крестьянским производством. Хотя попробуй поработай в поле. Или помолоти хлеб. Либо картошку высади-собери. Тогда и поймешь все про нехитрый крестьянский труд.
Но как подтверждение зажиточности села – церковь Рождества Богородицы.
Сейчас же село в полной разрухе и запустении. Летом я бродил по заброшенным огородам, собирал ягоду – малину да смородину. Под ноги катились дички-яблоки, словно просили – не бросай же нас, собери. Ведь это вы, люди, ответственны за все. Что нас приручили. И бросили. Вот мы и мельчаем, дичаем и скоро совсем на нет сойдем.
Мне становилось стыдно, и я дички собирал. Потом варил их дома, и получался кислый компот Кислый-то кислый, а пить как хорошо. Вечером. Догорает печка. Что-то потрескивает. Лампа керосиновая немного чадит. Нужно бы стекло почистить да фитиль подрезать.
Я вспоминаю годы сибирские, военные. Когда, помимо еды, важнейшим делом мамы было сохранение стекла керосиновой лампы. Не дай Бог разбить. Тогда – без света. Ибо стекла для ламп в ту пору в Сибири не было вовсе.
Да и сейчас, в округе Махры, поди сыщи стекло для керосиновой лампы. Хорошо, керосин в лавки завозят достаточно постоянно.
И как в каждой наполовину заброшенной деревне, было много пустых домов. Хотя эти избы домами уже можно было назвать с большой натяжкой.
Я постарался поселиться поближе к церкви. Нет, не давала покоя моему сохранившемуся мальчишескому воображению железная дверь, ведущая в, ясное дело, церковные подвалы. А там уж только ищи!
И еще. Близ церкви жила пожилая, даже очень пожилая дама. Домик у нее был ухоженный. Сама она совершенно не походила на одиноких деревенских старушек. Подтянутая. Причесанная.
Деревенские бабки завистливо ее называли «хранцуженка». Но при встрече все ей почтительно улыбались: «Здрась-те, Марь Иванна. Как здоровьичко?»
Марья Ивановна отвечала приветливо, но дистанция чувствовалась.
Я как-то бабкам и сделал замечание. Мол, чего же вы ее поругиваете, а как видите, так вроде бы и лучшие подруги, такие, что дальше некуда.
Объяснение бабок меня озадачило. «Дак как же иначе, Маркел. (Это они так меня называли.) Она же барыня, княгиня».
Вот вам и победа советской власти над классом помещиков. Это в газетах – победа. А в деревнях – полный вам «решпект». Не удержусь процитировать рассказ Ольги Вербицкой из ее замечательной книги «На что душа моя оглянется…».
Со своим мужем Юрой, родившимся во Франции, они приехали в бывшее имение Юры Вербицкого, что в селе Ровны, близ города Боровичи на восточном берегу Меты.
Так вот, Юрий Витольдович Вербицкий с Олей приехал в свое бывшее имение. Вернее, в место, где находились постройки хозяйственные и жилое помещение. Увы, конечно, ничего, кроме битого кирпича, не было.
Юру встречали сельчане. Мужики уже готовили стаканы под самогон – «с приездом», а бабы тихонько, умильно говорили: «Надо же, барин приехал. Ну, наконец порядок будет. А то мужик-то наш совсем спился».
Вот ведь как. Прошло столько лет, тяжелых, порой страшных, кровавых лет; уже в космос полетели, а крестьяне все ждут барина, который наконец наведет порядок и обустроит крестьянскую долю.
Я нашел в Махре заброшенный дом. Он был не очень-то годен для проживания. Дверь была разбита, половые доски давно рассохлись. Видно было, что мыши и иные мелкие животные дом давно облюбовали под инкубатор и вообще – место комфортного для них проживания.
Сгнивший матрас я решил выбросить. Мыши, оказалось, были очень недовольны. Там их гнезда. Вообще, первые несколько ночей я практически не спал. Так как местный мелкий народец, проживающий в избе уже который сезон, с моим вторжением смириться не мог. Но постепенно все, как в жизни вообще, стало налаживаться.
И вот вечером горел огонь в печке, которую сосед Леонид ловко починил. Две лампы керосиновые не чадили, было светло, и даже подумывать начал – не написать ли мне рассказ про Махру. Про заброшенную деревню, бывшую когда-то большим селом и видевшую то дьяка Битяговского, то чуть ли не царя молодого Петра, который прятался в Лавре от происков Софьи.
Село было разделено на две части. У церкви было несколько домов. В одном, как я уже сказал, жила непонятная и тем интересная мне пожилая дама – «француженка». Другой дом я облюбовал для себя – близок к церкви, объекту моего интереса.
В третьем жил Леонид. Он жил совершенно один, в почти полностью развалившейся избе и – пил. Нет, не запоями. Но постоянно и всегда. Где он работал, откуда брал деньги на проживание и на выпивку, я не знал. У меня занимал редко и, к моему удивлению, всегда отдавал. Я же решил сблизиться с одинокой «помещицей». Что-то было в ней, ее жизни, загадочное.
Увидел, она колола дрова. Нет, не тюкала. Колола, почти по-мужски. Но все-таки, все-таки. Взялся помочь. Помог. Представился. В дом приглашен не был. Как-то ехал в Загорск, предложил привезти продукты. Нет, ответила Марья Ивановна, продукты не нужны.
– Но вот не оказали бы вы мне любезность завезти меня в Лавру. Мне всего минут 20 нужно.
Конечно, я согласился. В дороге беседа была пустая, «светская». А в Лавру мы вошли вместе. Меня, признаюсь, несколько удивило, что какой-то монах, увидев мою спутницу, вдруг низко склонился, а когда она прошла, догнал ее и поцеловал плечо. Ничего себе, а!
А Марья Ивановна подошла к усыпальнице Годуновых. Склонилась. Видно, читала молитву.
Скоро мы отправились в Махру. Разговорить мне ее не удалось. И, что несколько обидно, мною, моим здесь пребыванием, «помещица» не интересовалась совершенно. Только когда уже высаживал ее у домика и помогал донести все-таки купленные продукты, она неожиданно сказала:
– Вам ведь интересно, сударь. Я вижу отлично. Не буду вас утомлять подробностями – я из рода Годуновых. Вот и езжу к своим предкам, молюсь за души их, частью невинно погубленные, а частью… – Тут она сделала рукой неопределенный жест и ушла в дом. Меня не пригласила. Да теперь и понятно. Кто она – княгиня из почти царского рода Годуновых!!! И кто я – смерд непотребный.
Прошло много лет, а я до сих пор вижу в мареве знойного лета стройную и высокую фигуру Марьи Ивановны. Прекрасные голубые глаза вовсе не выцвели, породистый нос не портил чудного рисунка лица, а морщины даже украшали ее. Не то что теперешние пожилые дамы: кожа лица подтянута, улыбка похожа на оскал уже ушедшего в мир иной тела, и жуть охватывает – не дай Бог, встретишь вот такую к ночи. (А их, кстати, по Европам стало очень много. Жить дамы стали далеко за восемьдесят, и почти все с кукольными лицами, но жестким взглядом.)
* * *Я неожиданно вспомнил, как несколько лет тому назад приезжал в Махру зимой. В облюбованной развалюхе затопил печь и пошел к церкви. Зимой я видел ее впервые, разрушенную Рождества Богородицы церковь.
Одна половина резных деревянных входных дверей, видно, давно лежала в стороне от входа. Уже вросла в землю и была засыпана снегом. Частью, там, где ветер убрал снег с двери, видна была засохшая полынь, прорастающая летом сквозь разбитые доски.
Странно, подумал я, почему местные двери на дрова не приспособили. Верно, неудобно было рушить эти двери – из дуба сделанные, они на самом деле были сработаны на века.
Вечерело. В пустые провалы окон врывался ледяной ветер. Вокруг церкви валялись занесенные снегом мраморные горельефы. Я почистил от снега одно разбитое творение. На меня с каким-то укором и грустью глядела Богородица. Рядом лежала чья-то кисть руки. Трех пальцев не хватало.
Я вошел вовнутрь. Роспись на стенах была сбита, но проступали детали жизнеописания Иисуса и его учеников. Впрочем, от всех них остались голубоватого цвета хитоны и почему-то печальные глаза. Лиц не сохранилось.
В алтаре также был снег и много сена и соломы. Позднее я узнал, что летом туда, в церковь, загоняли овец и коз. В церкви, очевидно, было летом прохладно и для деревенской живности весьма комфортно.
Разглядел я и широкую трапезную, и следы иконостаса, сгинувшего в неизвестность. Вот ведь как.
Но тем не менее время шло, я жил в развалюхе возле церкви и нет-нет, а загадочную старуху – «помещицу», княгиню Годунову, встречал. Вначале, правда, обидевшись, что она меня ни к себе не приглашает, ни на какие контакты сближения не идет, я прозвал ее «пиковая дама». Но вот узнав про род ее, я понял – нечего лезть туда, куда по рождению ты не дорос.
И я успокоился.
У меня ведь была задача – заветная дверь в церкви. Иногда ругал себя – старый ты дурак, ну куда в мальчишки играть, по подземельям шастать. Но вот не отпускает меня, как и каждого мужчину, эта надежда – найти клад или что иное.
А однажды случилось событие приятное. Я нес два ведра воды из колодца, и вдруг меня окликнула княгиня.
– Сударь, не хотите ли выпить кофию. Мне вчера из Лавры привезли, уже молотый. Или чай по утрам пьете? – сказала княгиня с некоторой иронией.
– Нет, «княгиня», – так я осмелился впервые назвать «помещицу», – с удовольствием. Вот только захвачу к кофию сыр, я из Москвы привез запас и борюсь за его сохранность – мыши хитры и коварны здесь, в Махре.
– Как, сударь, вы утром сыр кушаете? Оригинально. Ну, впрочем, заходите.
Комната княгини была превосходна. Чистенькая. Кот на меня смотрел долго и внимательно.
«Черт возьми, – подумал я, – хоть бы коту понравиться. Видно сразу, он здесь главный».
Кофепитие началось. Кофий на самом деле был превосходным. А легкие, голубые с золотым гарднеровские чашки, да и весь утренний ансамбль стола требовали и беседы соответствующей, и поведения определенного. Чему я приучен не был совершенно. Ибо жизнь проживал совершенно в иных условиях.
Правда, хозяйка нисколько моим очевидным смущением не заботилась.
«Вот что значит княжеская кровь», – думал я.
Княгиня вела беседу спокойно. Тактично в собеседование меня втягивала. Я беседу поддерживал и с каждой минутой чувствовал себя почти как дома. Когда еще была жива мама и обсуждалось все и вся. Да когда это было.
Мимоходом княгиня рассказала мне про свое житие. Получилось, что и я ей рассказал о себе достаточно, чтобы составить первое впечатление: не очень глуп, но простодушен. Наивен, хотя в его возрасте пора бы уже… В меру начитан, но языков не знает, что удивительно… И так далее. Многое могла вынести обо мне хозяйка домика. Да и кот тоже. Кстати, хозяйка представила мне кота: полное имя – Монигетти.
– Но я зову его просто – Моня. И что думаете – откликается. Кстати, сударь, обратите внимание: хитер, своенравен и характер имеет крайне склочный. Но уж ежели примет кого, то будет ему верен и выказывать свой полный решпект.
Кот и на самом деле, к моему удовольствию, решпект выказал. Он легко прыгнул мне на колени, устроился удобнее и замурлыкал, одновременно сквозь брюки запуская мне в нежные части тела острые когти.
В другой обстановке этот кот уже летел бы у меня в угол комнаты. А здесь – ноблес оближ – я улыбался и поглаживал кота, еле сдерживаясь не поддать ему как следует.
Постепенно я так увлекся «помещицей», что охладел к идее проникнуть в церковные подвалы. Да и Марья Ивановна тоже была не прочь принимать меня почти каждое утро на утренний кофий.
Беседы наши становились все откровеннее и откровеннее. Мы уже критиковали правительство, обсуждали новости науки и техники.
Мне было особенно интересно слушать ее рассказы о времени до 1917 года. А к моменту нашего знакомства княгине Годуновой было, по моим подсчетам, не меньше 80–85 лет. «И сама ходит за водой», – думал я изумленно.
Но что были за рассказы по утрам, я понял не сразу. Марье Ивановне доставляет удовольствие выговариваться, рассказывая о близких, знакомых. Правда, она часто оговаривалась, что о тех или иных родных, знакомых или просто известных людях она узнавала по рассказам маменьки. Княгини Годуновой.
Княгиня рассказывала, да как будто все было вчера, – что граф и князь Орлов в 70 лет влюбился в «какую-то певицу Анжелину» и позже заперся в своем имении и сошел с ума.
Узнал я, что вдовец 70-летний канцлер Горчаков пользовался успехом у женщин. Многие хотели бы выйти за него замуж.
Светские сплетни Марья Ивановна перемешивала с жалобами на повара Терентия: «Загордился и отбился от рук полностью. Я его просила – хочу спаржи. А он мне, видите ли, отвечает: вам холодной ботвиньи подам, она русскому духу более соответствует. И ведь знает, наглец, что не выгонят его. Ибо обучен и секреты блюд знает, как бог, Господи меня прости».
В таких случаях Марья Ивановна становилась нервная и меня выпроваживала довольно бесцеремонно.
Но я не роптал. Шел в свою развалюху, писал какие-то мысли, а больше – топил печь да пек картошку. С питанием в стране российской было не густо.
Постепенно я стал жить в каком-то сюрреалистическом мире. По утрам меня окружали Юсуповы, Потемкины, князья Шово или Лихтенштейнские, а днем забегал Леонид. В грязной майке. Всегда – в телогрейке. Просил трояк. Получал рубль и был рад. На мои вялые увещевания относительно пьянства он, почесывая грязными руками шею, отвечал:
– Эх, Маркел, ну ты в жизни ничего не понимаешь. Я чё пью-то? Я, – он переходил на шепот, – я «Голос» слушаю. Ну, который из Америки. А апосля «Голоса» только пить и остается. Жалею я очень за нашу страну, вот что я тебе скажу, Маркел. Какие же все у нас в правительстве суки. Вот мне и жалко за народ да за баб.
– А бабы-то здесь при чем?
– Дак как это при чем. Смотри. Одна проснулась, кричит: мама, хочу, мол, сырников. А глядь – мама-то она сама. И все сама – и работать, и варить, и кормить. А ночью-то тоже нет отдыха. Муж либо пьяный, либо невесть чиво хочет. Нет, нет, Маркел, погиб СССР, это я тебе говорю, Леонид. Я решил вообще завязать и записаться в энти… во враги народа. Ладно, дай еще рубль, и я побежал записываться, га-га-га.
Но однажды произошло то, чего я втайне ожидал. То есть уверен я был, кроется какая-то тайна в этой Марье Ивановне. Ну есть что-то. Ах, как мне хотелось это все узнать. Да как.
А вот как.
Утро было пасмурное. С реки тянул туман. Какая-то грусть меня вдруг охватила. Печаль, что ли. Неладно я живу – вот и вся причина моего душевного неустройства. А по-другому уже жить не могу. Запутан, запутан. Да воли нисколько не осталось. Осталось только петь «куда ты, удаль прежняя, девалась…».
Все эти мысли теснили мою душу, пока я собирался да шел к княгине на утренний раут.
К моей радости, и княгиня была в состоянии сумеречном. Сидела в полутьме, в кресле. На столе лежали пачки каких-то бумаг. Вроде писем-документов.
Кстати. Иногда мне хотелось выдумать что-либо такое и признаться княгине, что, мол, я из фамилии… которая… которой… Но тут мысли мои путались, и понял я, что врать не только нехорошо, но в данном случае просто отвратительно.
Вот с таким настроением налил себе кофию.
– А вы что же, княгиня. Налить вам?
– Нет, голубчик, что-то не хочется. Вот смотрела бумаги свои, и грустно мне стало. Кому все оставить. – Она тяжело вздохнула.
– Да никому не оставляйте, Марья Ивановна. Соберитесь да и езжайте к своей родне во Францию. Вы ведь рассказывали, давно вас зовут и ждут. Да и времена у нас пошли неожиданные. Выехать можно. Только паспорт да билет. А уж визу-то вам посольство выдаст без сомнений. Еще бы, вы ведь носительница такого титула. За границей это весьма уважают.
– Да нет, уже, видно, не поеду. Не хочется. Я здесь, в домике ведь не просто так. Можно сказать, по обету я здесь. И обет этот менять не хочу и не могу. Да и зузы кончаются. Ладно, как-нибудь расскажу, ежели Бог даст. А сейчас давайте залудим кофий да побазарим[10] за жизнь нашу грешную.
Княгиня, видя мое изумление от сленга, весело рассмеялась. И быстро собрала рассыпанные бумаги.
– Ну, за кофий. Кстати, сударь, как вы смотрите на настоечку-наливочку?
– Да прекрасно, княгиня.
Появился графин с рубиновым напитком. Ну просто именины сердца.
Марья Ивановна, видно, чувствовала себя не очень хорошо. Я предложил вызвать врача. То есть, так как телефона, конечно, в разваленной Махре не было, я предложил сгонять в Загорск за врачом.
– Нет, сейчас не надо. Еще не время. Лучше послушай да не перебивай меня. Мне нужно тебе рассказать. Думала – многое, но нет, не получится. Плохо себя чувствую. Поэтому просто слушай внимательно. И ежели возможно, даже запиши. Но вначале ты должен выслушать вот что.
Я не заметил, как Марья Ивановна стала называть меня на «ты». Да и ладно. Даже хорошо. Я уже давно испытывал какое-то чувство к ней. Может, потому, что рано потерял родителей и всегда чувствовал себя одиноким. Одним во всем мире. Хотя уже и в возрасте сейчас достаточном, но все равно – очень хотелось маму.
Может, и казалась мне в княгине Годуновой хоть частичка того, что мы получаем только от матерей. Недаром на фронте, в крови, грязи и смерти вокруг часто последнее слово кричит солдат – мама. Вот почему пытался я в силу своего разумения помочь Марь Ивановне. Да и вообще – как не помочь.
Марья Ивановна мною руководила. Я дал ей корвалол, налил крепкий сладкий чай, после чего она просила слушать ее, не перебивая. Но – очень внимательно. Вначале она сделала мне предложение. От которого, как она сказала, слабо улыбнувшись, я не имею права отказаться.
– Дело в том, что уже второй год я тебя изучаю. И поняла – могу доверить тебе нашу семейную, годуновскую тайну. Только ты все равно должен дать клятву. Что не подведешь, не предашь, выполнишь все, что я скажу. Вот, возьми у изголовья книгу, это Библия еще самого Годунова. Ей, кстати, цены теперь нет, – мимоходом заметила княгиня. – Держи ее в руках и просто скажи мне – выполню вашу просьбу. Честное слово. И все. Мне этого достаточно.
Конечно, я весь этот ритуал проделал. И уже не любопытство мною руководило. Я понимал, чувствовал – не обману, не предам.
* * *– Ну, хорошо. Дай еще чаю. Теперь слушай. Вся наша семья в 1918 году бежала из России. Оказались в Париже и через трудности, но все-таки все стали устроены.
А перед побегом нужно было принять одно важное решение. Дело в том, что в Махре в середине XIX века располагался лейб-гвардии Волынский полк. Чего его туда загнали на зимние квартиры, никто не понимал. Правда, слухи ходили – мол, много вольнодумцев в полку. Пусть позимуют в холодных избах да побудут без итальянских певичек – вот из них все вольнодумство и выветрится. Так думали, видно, у государя.
В этом полку служил и наш родственник, князь Петр Годунов, капитан. Хоть и храбро он воевал в 12-м году, но, по рассказам, был совершенно статским. Наивный и уж очень справедливый. А в России справедливым быть сложно. Да подчас и опасно.
Случилась там история, я тебе ее рассказывать не буду, ты из документов и записок все поймешь. В общем, был убит наш Петруша Годунов и похоронен в приделах церкви Рождества Богородицы, что в Махре. Тайно братия Лавры его хоронила. И по преданию, положила у гроба ценные вещи царя Бориса Годунова.
Больше в нашей семье никто не возвращался к этому вопросу. Только боялись воров. Особенно когда ваши большевики стали править государством. Поэтому-то решили на семейном совете: всем бежать, так как понимали – рано или поздно, но доберутся власти до Годуновых. Припомнят нам и гибель царевича Дмитрия Угличского, и Смуту, да и все, что было и не было.
Но оставлять реликвии без присмотра тоже было нельзя. Поэтому решили, чтобы в России осталась я. Мне к 1918 году было 18 лет. Думали мой батюшка да родственники, что гимназистка ничем не запятнана. Еще при царе, можно сказать, не служила и никто меня не тронет.
А должна я проживать в Махре тихо и с Лаврой поддерживать связь. В Лавре был человек, кто меня знал и моим родичам информацию передавал. Задача же моя была простая: следить, чтобы могилу Пети не повредили воры или другие лихие. А в случае – быстро сообщить в Лавру. Для этого все было приготовлено. В случае беды, хоть ночью, хоть когда, должна я подать условный знак. Тут же придут люди, которые разбираться с церковными грабителями приучены.
Да вот ошибся мой папенька. Меня-то как раз и заарестовали.
Будь добр, дай мне чаю, да давай отдохнем, я устала…
Через час мы продолжили собеседование. Вернее, инструкции по этой детективной истории.
– В общем, 19 лет меня мотали по лагерям. Сначала – Соловки, 5 лет. В 1937-м – 10 лет – Дмитровлаг. Хорошо, я спаслась, учила детей начальника французскому. А в 1949-м – снова на 5 лет. Но сидела в Дубравлаге 4 года. Вот почему я сленг этот и знаю. Потом усатый откинулся.
Впрочем, все документы найдешь в сундучке под кроватью. Побереги их. Когда мои родственники приедут – передай им.
Ну, я устала. Спать буду. Приходи завтра утром…
Однако я не ушел. Остался. Часов в 5 утра меня разбудил кот. Он прыгнул мне на грудь и молча на меня смотрел.
Я все понял сразу. Княгини уже не стало. На столе лежала записка, без адреса. Всего два пункта.
Первый – не бросай кота.
И второй – отдайте все Маркелу.
Не понимаю, что за связь работала у княгини, но в 5:45 в дверь постучали люди из Лавры. Они были немногословны. Меня попросили подождать. Через час позвали. Переодетая и уже готовая в последний путь лежала княгиня Годунова. У изголовья монах читал псалтырь. Пахло свечами и ладаном. На буфете сидел кот, и его огромные зеленые глаза не отрывались от лица княгини.
Была тишина. Даже вороны и галки примолкли.
Ко мне подошел красивый молодой человек в рясе.
– Мы выполним все формальности по оформлению дома. Также мы знаем, что вы дали согласие исполнять просьбу княгини. Ежели вам что-то потребуется срочно, то вот для экстренной связи вам фонарь. Ставьте у окна с южной стороны. Он сильный. Через три месяца я буду менять аккумулятор. Вот эта кнопка – красный свет. Значит – тревога. Через 15 минут наши люди будут у вас. Другая кнопка – зеленая. Ее можно не включать. Княгине она нужна была для сообщения – все в порядке, я здорова.
Ежели приедут от семьи Годуновых, то я приеду вместе с ними и вам никакого беспокойства не будет.
Через три дня похороны княгини в Лавре. В родовой усыпальнице Годуновых. Приезжайте к 12 часам дня. Стойте у святого источника, к вам подойдут.
Ну, Бог вас храни…
Далее княгиню тихонько вынесли. Во дворе стоял Леонид. Кот вышел на крыльцо, он далее не пошел. Снова ушел в дом. Вот так я и стал вместе с котом жить в этой маленькой избушке близ церкви Рождества Богородицы, где в одном из приделов был похоронен капитан лейб-гвардии Волынского полка князь Петр Годунов.
Глава IV
Более полугода я потратил на разбор бумаг княгини. Затруднений было много. Большая пачка писем, полученная из Франции от Годуновых, ждет еще своего часа. Ибо я, чтобы только разобрать бумаги, вынужден был прибегать к помощи переводчика. Даже одно время поселил переводчицу в моем домике. Но расстался – брала довольно дорого. Да и другие претензии меня утомляли.
Вторая группа бумаг – документы министерства, придворного и военного ведомств, также написаны по-французски. Их я тоже отложил до более свободного времени. А вот документы, касающиеся капитана Петра Годунова, меня заинтересовали очень. Я их систематизировал и привожу в этом рассказе.
Также бумаги, касающиеся княгини и ее пребывания на родной земле, оказавшейся такой к ней жестокой. Их я тоже решил опубликовать, благо все они изложены на русском языке.
На русском языке я обнаружил и дневник княгини. Он был отрывочен, ибо во время арестов о каких дневниках могла идти речь. Может быть, достанет времени отрывки из дневника привести здесь же. Или отдельным изданием.
Итак, Петр Годунов. Официальная версия.
Военно-судное дело[11]
г. Троицко-Сергиев Посад
28 апреля 1848 года
Судная комиссия в составе:
Полковник барон Нолле Х.И.
Подполковник Иванов Ф.И.
Поручик Черняев И.Л.
Секретарь – штабс-капитан Примо Г.Х.
Мотив происшествия:
Судная комиссия выяснила обстоятельства дела, повлекшего смерть инженер-полковника барона Шарона и капитана князя Годунова.
В ночь на 20 марта 1848 года в помещении офицерского собрания лейб-гвардейского Волынского полка офицеры гвардии отдыхали. Некоторые играли в непредосудительные карточные игры. Близ выхода группа офицеров рассматривала весьма изящный дуэльный гарнитур с капсульными пистолетами изготовления французского оружейника А. Форе-Лепажа[12].

