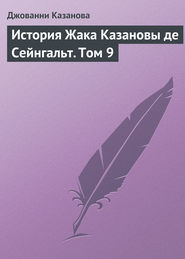
Полная версия:
История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 9
– Восхитительно. Вы полагаете, что если дело обстояло так, как о нем рассказывают, это делает мне чести?
– Ни вины, ни чести. Вас любят, над этим смеются, и каждый говорит, что на вашем месте поступил бы так же.
– И вы в том числе.
– Да. Будучи уверен, что на шарике есть Арлекин, я бы разорил банк, как сделали и вы. Скажу вам честно, что я не знаю, выиграли ли вы благодаря везению или ловкости, но если бы я должен был дать заключение, основываясь на наиболее правдоподобном предположении, я сказал бы, что вы знали о шарике. Поверьте, что я рассуждаю здраво.
– Я этому верю, но вы исходите из предположения, которое меня бесчестит. Согласитесь также, что все те, кто полагает меня способным выиграть с помощью ловкости, меня оскорбляют.
– Это зависит от образа мыслей. Я допускаю, что они вас оскорбляют, если вы чувствуете себя оскорбленным; но они не могут об этом догадаться, и, соответственно, не имея намерения вас оскорбить, они вас и не оскорбляют. Впрочем, вы не найдете никого, настолько наглого, чтобы сказал, что вы выиграли за счет ловкости; однако, вы не можете помешать им так думать.
– В добрый час. Пусть так думают, но пусть остерегутся мне это сказать. Прощайте, господин маркиз, до часа обеда.
Я вернулся к себе, сердитый на Гримальди, на Ринальди, сердитый, что грубо обошелся с Ирен, которую любил, и сердитый на то, что сержусь, потому что мог бы над этим посмеяться; при теперешнем развращении нравов это дело не могло повредить моей чести. Моя репутация была репутацией человека умного, в том значении, которое облагораживает в Генуе более, чем в любом другом месте, тот неприятный смысл, который придавали у янсенистов неприятному имени мошенник. Я размышлял, наконец, о том, что мне не следует проявлять слишком много щепетильности, отобрав бириби тем способом, который, как считают, я применил, если действительно человек с мешком, предварительно со мной свяжется, если это послужит лишь для развлечения прекрасной компании с помощью красивого подвига; но если дело не сложится подобным образом, я не могу позволить, чтобы кто-то действительно выкладывал подобное.
Я постарался справиться со своим дурным настроением для доброй компании, что ждал к обеду. Ко мне явилась моя племянница, у которой не было ни бриллиантов, ни часов и никаких украшений – ее несчастный любовник все с нее продал, – но хорошо одетая и превосходно причесанная, она блистала, как только можно желать.
Пришла Розали, богато убранная, затем Паретти со своими дядей и тетей и с двумя друзьями, чье состояние льстило моей племяннице. Значительно позже явилась м-м Изолабелла вместе с г-ном Гримальди. Перед тем, как мы собрались садиться за стол, Клермон объявил о некоем человеке, который хочет со мной поговорить. Я сказал пригласить его, и г-н Гримальди сказал мне, что это человек, который является держателем мешка от бириби.
– Чего вы хотите от меня?
– Я пришел попросить вас о помощи. Меня высылают; а у меня есть семья. Думают, что…
Я не дал ему кончить. Я сказал Клермону, чтобы тот дал ему четыре цехина, и я его выпроводил.
Мы сели за стол, – и вот, опять Клермон, он передает мне письмо. Я вижу подпись Пассано и кладу его в карман, не вскрывая.
Мой обед протекал очень весело, все отдали должное искусству моего повара. М-м Изолабелла блистала на первом плане, но Розали и племянница ее затмевали. Молодой генуэзец все свое внимание уделял только моей племяннице, и она, как мне казалось, была к этому чувствительна. Мне хотелось увидеть ее влюбленной в кого-то, кто смог бы заставить ее отказаться от безнадежной идеи пойти затвориться в монастыре. Она могла бы снова стать счастливой, лишь отказавшись от воспоминаний о несчастном, который поставил ее на край пропасти.
Вот письмо, которое мне написал Пассано:
«Я отправился в «Банчи»[3], чтобы обменять на деньги кусочек в сотню ливров, который вы мне подарили. Его взвесили и нашли, что он на десять карат легче своей величины, его у меня конфисковали, приказав мне сказать, от кого я его получил. Вы понимаете, что я не должен был на это отвечать. Меня отправили в тюрьму, и если вы не найдете способа меня оттуда вытащить, меня ждет уголовный суд. Вы понимаете также, что я не могу дать себя повесить. Остаюсь…, и т. д.»
Я передал письмо г-ну Гримальди. Прочитав его, он сказал, отведя меня в сторону, что это очень плохое дело, которое, прямо говоря, можно решить, только передав палачу того, кто подпилил кусочек.
– Повесят держателей бириби. Пусть их повесят.
– М-м Изолабелла будет скомпрометирована, поскольку бириби запрещена повсюду. Я должен переговорить с Государственными Инквизиторами. Позвольте мне действовать. Напишите Пассано, чтобы он продолжал молчать, и что вы обо всем позаботитесь. Закон относительно подпиливания монет суров только в части этих кусочков, потому что правительство хочет, чтобы они получили хождение в Генуе, и чтобы подпиливатели, будучи примерно наказанными, его уважали.
Я написал, соответственно, Пассано и велел принести весы. Мы взвесили все золотые кусочки, что я выиграл в бириби, и нашли их легче на сумму двух тысяч генуэзских ливров. Г-н Гримальди распорядился их порезать и продать ювелиру.
Поскольку дело было сделано, г-н Гримальди предложил мне партию в пятнадцать тет-а-тет. Это игра тет-а-тет очень неприятная, но я согласился. При ставке в четыре цехина я проиграл в четыре часа пять сотен цехинов.
Назавтра, к полудню, он пришел ко мне сказать, что Пассано уже не в тюрьме, и что ему вернули стоимость его кусочка. Он принес мне также двенадцать или тринадцать сотен цехинов, что получил от ювелира, которому продал изрубленные кусочки золота. Я поблагодарил его за все и сказал, что завтра пойду к м-м Изолабелла, и попрошу у него реванша в пятнадцать.
Я застал его наедине с его дамой. Мы должны были поужинать втроем, но не стали. Мы стали играть и кончили только в два часа по полуночи. Я проиграл три тысячи цехинов, из которых тысячу заплатил назавтра, передав ему платежные поручения от меня на остальные две тысячи. По истечении срока его оплаты я был в Англии, и я их опротестовал. Пять лет спустя меня по доносу предателя присудили к тюремному заключению в Барселоне, но г-н Гримальди повел себя благородно. Он написал мне письмо, в котором раскрыл имя моего врага и заверил меня, что не сделает никогда ни малейшего демарша против моей персоны, чтобы заставить меня ему заплатить. Дело было возбуждено Пассано, который, без моего ведома, находился тогда в Барселоне. Я об этом поговорю, когда окажусь там. Все те, кого я взял к себе, с тем, чтобы они мне послужили в тех глупостях, что я творил с м-м д’Юрфэ, меня предали, за исключением венецианки, с которой я познакомлю моего дорогого читателя в следующей главе.
Несмотря свои потери, я жил хорошо, и деньги меня не беспокоили, потому что, наконец, я потерял только деньги, которые выиграл в бириби. Розали приходила обедать ко мне, и я приходил к ней каждый вечер, ужиная вместе со своей племянницей, любовные дела которой становились с каждым днем все серьезней. Я говорил ей об этом, но ее не покидала идея запереться в монастырь, и она сказала мне в начале святой недели, что ее решение стало непоколебимым, поскольку ей к этому времени стало очевидно, что она не беременна.
Она стала испытывать по отношению ко мне такое чувство дружбы и настолько большое доверие после того, как я заимел Аннет, что она часто приходила по утрам, присаживалась на моей кровати, когда та еще находилась в моих объятиях. Она смеялась, видя наши нежности, и казалось, участвовала в наших любовных удовольствиях. Было странно, что своим присутствием она увеличивала мое. Я заглушал с помощью Аннет желания, которые пробуждала во мне моя племянница, и которые я не мог погасить с ней и в ней. Аннет в своей недальновидности не могла заметить моей раздвоенности. Племянница знала, что ее присутствие доставляет мне удовольствие, и я знал, что то, что она видит, что я делаю, не может ей быть безразлично. Когда она думала, что я исчерпался, она просила Аннет подниматься и оставить ее наедине со мной, поскольку она хочет что-то мне сообщить. Аннет вставала и уходила. Тогда, оставшись со мной, она смеялась, и не сообщала мне ничего важного. Сидя рядом со мной в самом полном неглиже, она полагала, что ее чары не имеют на меня никакой силы. Она ошибалась, и я не пытался ее разубедить, из опасения потерять ее доверие. Моя племянница не понимала, что она не Аннет, и что Аннет не она. Я ее оберегал. Я чувствовал уверенность, что она вознаградит меня, в конце концов, позже, после нашего отъезда из Генуи, когда мы окажемся в весьма свободных условиях тет-а-тет, в которых бывают в путешествии, в нежном безделье, в котором, при отсутствии занятий, проявляют себя в полной мере силы тела и души. Тогда можно болтать, настаивать, убеждать и даже смеяться; можно действовать, и действуют, потому что не осознают, что происходит. Думают лишь потом, и довольны, что все уже произошло.
Но история моего путешествия из Генуи в Марсель была записана в великой книге судьбы. Не имея возможности ее прочитать, я не мог и знать его обстоятельств. Я знал только, что должен ехать, потому что меня ждала в Марселе м-м д’Юрфэ. С этим путешествием были связаны решающие комбинации, от которых должно было зависеть состояние самого красивого из всех женских созданий: венецианки, которая со мной не была еще знакома и не знала, что я существую, чтобы явиться инструментом ее счастья. Я не знал, что должен был остановиться в Генуе, чтобы ее там ждать, поскольку я не знал, что она есть в числе человеческих созданий.
Поскольку я наметил отъезд на второй день Пасхи, у меня еще было шесть дней. Я прикинул свои расчеты с банкиром, к которому меня адресовал Греппи, и взял кредитное письмо на Марсель, где, поскольку там находилась м-м д’Юрфэ, я не мог испытывать нужды в деньгах. Я попрощался с м-м Изолабеллой, чтобы жить всю неделю в полной свободе, единственно с Розали и ее семьей, и часто приезжал в ее загородный дом.
Глава II
Мой брат аббат и его непорядочность. Я завладеваю его любовницей. Отъезд из Генуи. Принц Монако. Моя племянница побеждена. Прибытие в Антибы.
В святой вторник утром Клермон сказал мне, что иностранный аббат, который не хочет сказать свое имя, желает со мной говорить. Аннета пошла прислуживать своей хозяйке. Я пригласил в этот день обедать к себе Розали, всю ее семью и ее друзей.
Я вышел из своей комнаты в ночном колпаке, чтобы посмотреть, что это за аббат. Я увидел личность, которая бросилась мне на шею и крепко обняла. В комнате было темно. Я подошел к окну и увидел младшего из своих братьев, которым я всегда пренебрегал, которого не видел уже десять лет и который меня столь мало интересовал, что я не интересовался даже о его существовании в переписке, которую поддерживал с г-дами де Брагадин, Дандоло и Барбаро.
Как только эти дурацкие объятия прекратились, я спросил у него холодно, какие приключения занесли его в Геную в том плачевном состоянии, в каком я его вижу, потому что он был грязный, мерзкий и оборванный; от него остались только красивое лицо, прекрасные волосы, цветущий вид и возраст двадцать девять лет. Он родился, как Магомет, через три месяца после смерти моего отца.
– Если я должен, дорогой брат, рассказывать всю историю моих несчастий, она будет долгой. Пойдем же в вашу комнату, и я расскажу вам все с наибольшей правдивостью.
– Ответь сначала на все мои вопросы. С каких пор ты здесь?
– Со вчерашнего вечера.
– Кто тебе сказал, что я здесь?
– Граф А.Б. в Милане.
– Кто тебе сказал, что граф меня знает?
– Я прочел месяц назад в Венеции на столе г-на де Брагадин письмо, которое он вам писал, адресованное в дом этого графа.
– Ты сказал ему, что ты мой брат?
– Я должен был в этом признаться, когда он сказал, что я на вас похож.
– Он тебя обманул: ты животное в душе.
– Он пригласил меня обедать.
– Такого оборванного. Ты оказал мне много чести.
– Он дал мне четыре цехина, без чего я не смог бы явиться сюда.
– Он сделал глупость. Ты просишь милостыню. Почему ты покинул Венецию и что ты хочешь от меня?
– Ах! Прошу тебя, не ввергай меня в отчаяние, потому что, по правде говоря, я готов себя убить.
– Я в это не верю; но почему ты покинул Венецию, где, со своими мессами и своими подаяниями, ты жил?
– Это часть моей большой истории. Войдем.
– Отнюдь. Подожди меня здесь. Мы пойдем куда-нибудь, где ты расскажешь мне все, что хочешь. Остерегись говорить моим людям, что ты мой брат, потому что я этого стыжусь.
Я быстро пошел одеться во фрак и сказал ему вести меня в свою гостиницу.
– Должен вас предупредить, что в своей гостинице я нахожусь в компании, и что я могу говорить с вами только тет-а-тет.
– В компании кого?
– Я скажу вам это. Пойдем в какое-нибудь кафе.
– Но что это за компания? Говори сразу, это воры? Ты вздыхаешь?
– Это девушка.
– Девушка? Ты священник.
– Ослепленный любовью, соблазненный ею, я ее соблазнил. Я пообещал ей жениться в Женеве, и очевидно, что я не смею больше вернуться в Венецию, потому что я ее умыкнул из дома ее отца.
– Что ты станешь делать в Женеве? Тебя пустят только на три дня, потом выгонят. Пойдем в твою гостиницу; я хочу видеть девушку, которую ты обманул. Ты мне расскажешь наедине все потом.
Я направился в гостиницу, которую он назвал, он должен был следовать за мной; я вхожу, и здесь он меня опережает, поднимается на третий этаж, где я вижу в темном чулане девушку, очень юную, высокого роста, брюнетку, красивую, пикантную, гордого вида, но при этом смущенную, которая, не здороваясь со мной, спрашивает, не брат ли я этого лжеца, который ее обманул. Я отвечаю ей, что да.
– Сделайте же, пожалуйста, доброе и благородное дело и отправьте меня в Венецию, потому что я не хочу больше оставаться с этим мошенником, которого я слушала как дурочка, который рассказывал мне сказки, что запутали мне мозги. Он должен был найти вас в Милане, где вы должны были дать ему денег, чтобы направиться в Женеву на почтовых, и где, как он мне сказал, священники женятся, став реформатами. Он сказал мне, что вы ждете его, но вас там не было. Он достал денег, уж не знаю как, и увез меня сюда. Бог судил, чтобы он вас нашел, потому что без этого я завтра бы пошла пешком, прося милостыню. У меня нет ничего, кроме рубашки на теле. Он продал в Бергамо три другие, что у меня были, после того, как продал в Вероне и в Бреши чемодан и все, что у меня в нем было. Он свел меня с ума. Он заставил меня поверить, что мир вне Венеции это рай; я заинтересовалась этим и покинула мой дом; я убедилась, что он и в тысячу раз не таков, как у нас. Будь проклят час, когда я узнала этого обманщика. Это нищий, который говорит все время как на проповеди. Он хотел спать со мной, как только мы прибыли в Падую, но я не была столь глупа. Я хотела сначала посмотреть на это бракосочетание в Женеве. Вот записка, которую он мне написал. Я вам ее подарю; но если у вас добрая душа, отправьте меня в Венецию, без того, чтобы я была вынуждена идти туда пешком.
Я выслушал всю эту тираду стоя и в истинном изумлении. Этой трагической сцене придавал комический оттенок мой брат, который, сидя и держа голову зажатой между рук, должен был слушать всю эту жестокую историю. Без вздохов, которые он испускал время от времени, я мог бы подумать, что он спит.
Эта грустная авантюра меня странным образом задела. Я увидел, что должен позаботиться об этой девочке и развязать этот дурно завязанный узел, отправив ее в надежные руки на ее родину, которую она, быть может, не покинула бы, если бы не понадеялась на меня, как вздумал ей внушить мой брат. Характер этой девушки, совершенно венецианский, поразил меня еще более, чем ее очарование; ее искренность, ее справедливое негодование, самолюбие, смелость мне понравились; она не просила меня, чтобы я вернул ее обратно, но заявляла, что по чести я не могу ее оставить в беде. Я не мог сомневаться в правдивости ее рассказа, поскольку мой брат, здесь присутствовавший, хранил молчание, как истинно виновный. Жалость, которую он мог мне внушить, не могла быть отделена от презрения.
После слишком долгого молчания я предложил ему отослать ее в Венецию в сопровождении порядочной женщины в карете, которая отправлялась из Генуи каждую неделю.
– Но вы пожалеете, – сказал я ей, – если вернетесь домой беременная.
– Беременная? Разве я не сказала вам, что он должен был жениться на мне в Женеве?
– Но, несмотря на это…
– Как, несмотря на это? Поймите, что я никогда не соглашалась ни на малейшее из его желаний.
– Вспомните, – сказал ей брат жалобным голосом, – о той клятве, которую вы дали мне, быть навсегда моей. Вы произнесли ее перед распятием.
Говоря эти слова, которыми он упрекал ее в нарушении обещания, он поднялся, но она, далекая от того, чтобы это признавать, залепила ему пощечину тыльной стороной ладони. Я ожидал небольшой битвы, которой не собирался мешать, но не тут то было. Аббат, смиренный и тихий, отвернулся к окну, подняв глаза к небу, затем пролил слезу.
– Вы злобный дьявол, моя прекрасная мадемуазель, – сказал я ей. Тот, с которым вы так обращаетесь, – это мужчина, который несчастен, так как вы сделали его влюбленным.
– Все, что я знаю, это что он заставил меня совершить глупость, и я не прощу его никогда, разве что, не видя больше никогда. Это не первая пощечина, что я ему влепила, я начала еще в Падуе.
– Вы отлучены от церкви, – сказал он ей, – потому что я священник.
– Я тебе дам еще.
– Вы не дадите ему еще, – говорю я. Берите свои вещи и идите за мной.
– Куда вы ее ведете? – спрашивает влюбленный.
– К себе, и молчи. Подожди. Вот, я даю тебе двадцать цехинов, чтобы купил себе одежду, редингот и рубашки. Ты оставайся жить здесь. Завтра утром я приду с тобой поговорить. Отдай бедным свои лохмотья и возблагодари Бога, что встретил меня. Пойдемте, мадемуазель, я велю отвести вас ко мне, так как в Генуе не должны видеть вас в моей компании, особенно потому, что вы прибыли сюда вместе со священником. Я должен затушить этот скандал. Я поручу вас моей хозяйке, остерегитесь рассказывать ей эту скверную историю. Я дам вам прилично одеться.
– Пойдемте. Слава Богу!
Окаменев при виде двадцати цехинов, он позволил нам уйти, не говоря ни слова. Я сразу поручил моей хозяйке купить ему платье, рубашки, чулки, башмаки и все, что может ему понадобиться. Мне было очень интересно, какова будет эта девушка, когда окажется в состоянии успокоиться. Я известил Аннету, что девушка, которую мне рекомендовали, будет есть и спать вместе с ней, и поскольку мне надо было принимать прекрасную и многочисленную компанию, я пошел одеваться. Я счел себя обязанным информировать мою племянницу обо всей этой истории, чтобы у нее не возникло относительно меня каких-либо низменных предположений. Она сочла, что я и не мог поступить иначе, и ей было любопытно увидеть эту девушку, также как и моего брата, которого она сочла достойным намного большей жалости. Я сделал ей подарок – платье из цветного коленкора с большими букетиками, которое ей шло чрезвычайно. Она вызывала мое восхищение как своим поведением со мной, так и обхождением с молодым человеком, который влюбился в нее до самозабвения. Она встречала его каждый день, либо у меня, либо у Розали. Он писал ей, без всякого ответа, в купеческом стиле, что все согласно между ним и ею, возраст, положение и состояние, и ничто не могло бы помешать ему отправиться в Марсель просить ее руки у ее отца, кроме антипатии с ее стороны к нему. Он просил ее объясниться. Когда она показала мне его письмо, спрашивая совета, я ее поздравил. Я сказал, что на ее месте я бы не пренебрегал этой партией, если г-н Н.Н. ей нравится. Она отвечала, что ничто в молодом человеке не вызывает у нее возражения, и что Розали придерживается моего же мнения.
– Скажите же ему сами, что вы его ждете в Марселе, и что он может быть уверен в вашем согласии.
– Я скажу ему об этом завтра.
Поднявшись из-за стола, я пошел повидать Аннет, которая обедала в комнате племянницы вместе с Марколиной – таково было имя венецианки. Я ее почти не узнал. Но это было не из-за ее платья, в котором не было ничего необычного, а из-за ее лица, которое удовольствие сделало в сотню раз более красивым. Веселость заступила место гнева, который всегда делает человека некрасивым, и нежность, порожденная удовлетворенностью, придала ее лицу вид амура. Мне показалось невозможным, чтобы существо, что я вижу, выдало моему брату, святому отцу, звонкую пощечину, которую я видел и слышал. Две новые подружки ели и смеялись, сами не зная над чем. Марколина говорила на венецианском жаргоне, и Аннет, ей в отместку, отвечала ей на генуэзском; но первый был очарователен, и вся Италия его понимала, в то время как второй более отличается от итальянского, чем швейцарский от немецкого. Я поздравил Марколину с ее довольным видом.
– Я чувствую себя перешедшей из ада в рай.
– Вы и кажетесь мне похожей на ангела.
– А сегодня утром вы назвали меня дьяволом. Но вот вам белый ангел, о котором и не подозревали в Венеции.
– Теперь вы моя игрушка.
Пришла моя племянница и, видя меня веселым с этими девицами, уселась рядом со мной, чтобы получше изучить мое новое приобретение.
Она нашла ее вполне хорошенькой и, сказав ей об этом, подарила ей нежный поцелуй. Марколина, настоящая венецианка, спросила у нее без церемоний, кто она.
– Я племянница месье, который теперь отвозит меня ко мне в Марсель.
– Вы бы стали также и моей племянницей, если бы я стала его сестрой. Как бы я была счастлива иметь такую красивую племянницу!
И вот опять в изобилии поцелуи, которые получает и раздает Марколина. Мы оставляем ее вместе с Аннет и направляемся на рейд, где садимся в большую парусную барку.
Вернувшись домой к полуночи, я спросил у Аннет, которая раздевала свою хозяйку, где венецианка, и она ответила, что та рано легла и сейчас спит; мне захотелось на нее посмотреть. Она проснулась, я присаживаюсь рядом с ней, я говорю ей, что в кровати нахожу ее еще более красивой, я хочу ее обнять, она сопротивляется, я не настаиваю, и мы беседуем. Четверть часа спустя приходит Аннет, я говорю ей идти ложиться, и она идет, гордая тем, что Марколина понимает, что она моя любовница.
Я между тем расспрашиваю ее о моем брате, говорю ей о том живом интересе, который она мне внушила сразу, как я ее увидел, и обо всем, что я готов для нее сделать, захочет ли она вернуться в Венецию или ей больше по душе ехать во Францию вместе со мной.
– Женившись?
– Нет, так как я женат.
– Это неправда, но мне это неважно. Отправьте меня в Венецию, и как можно раньше; я не хочу быть ничьей наложницей.
Тут я становлюсь настойчив, применяя, однако, лишь ту нежность, которой любой женщине труднее сопротивляться, чем открытой силе. Смеющаяся Марколина, видя, что я продолжаю, несмотря на то, что она перекрывает мне все пути, резко выскакивает из постели, укрытая одной длинной рубашкой, заходит в комнату моей племянницы и запирается там. После чего я направляюсь ложиться спать, однако разозленный. Аннет, сочтя, что с ней обошлись не лучшим образом, затевает ту же игру, что и Марколина.
На другой день рано утром я вошел к моей племяннице, чтобы посмеяться слегка над компанией, которую я ей случайно предоставил, – и есть над чем посмеяться.
– Эта венецианка, – говорит мне она, – меня изнасиловала.
Та другая, не защищаясь, настраивается снова давать ей знаки продолжающейся нежности, которые, исполненные изящества, дают мне представление о том, что они делают под покрывалом.
– Вот, – говорю я моей племяннице, – грубый штурм, по сравнению с той обходительностью, которую проявлял ваш дядя по отношению к вашим предрассудкам.
– Эти шалости между девушками, – ответила мне она, – не могут соблазнить мужчину, который покинул объятия Аннет.
– Но они меня соблазняют.
Говоря так, я их раскрываю. Марколина кричит, но не двигается, и другая говорит мне чувствительным тоном, чтобы я их снова укрыл; однако то, что я видел, слишком меня взволновало, чтобы торопиться. В этот момент заходит Аннета и, выполняя приказ своей хозяйки, натягивает покрывало на вакханок и лишает меня таким образом прекрасного зрелища. Разозленный теперь против Аннет, я толкаю ее на кровать и даю двум остальным столь интересный спектакль, что они бросают свои шалости, чтобы смотреть его с самым большим вниманием. После чего Аннет клянется мне, что я прав, отомстив таким образом за их неприступность. Вполне довольный фарсом, я направился завтракать и сразу затем пошел в гостиницу, чтобы повидаться с братом.
Я нашел его прилично одетым.
– Как себя чувствует Марколина? – говорит он мне грустно.
– Очень хорошо. Я поместил ее очень просто. Она ест и спит с горничной моей племянницы, и очень довольна.

