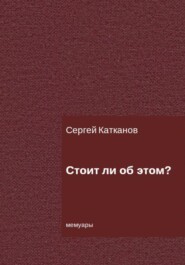 Полная версия
Полная версияСтоит ли об этом?
Я упрямо твердил, что не видел, как они делали эти надписи. В сопровождении двух сотрудников КГБ нас привели в аудиторию гражданской обороны.
– Они сидели здесь, – говорит мне один из них, – а ты сидел здесь. И ты утверждаешь, что не видел, как они расписывали парту?
– Нет, не видел, – отвечаю я чуть ли не с улыбкой, прекрасно понимая, что в мои слова невозможно поверить.
И вдруг совершенно неожиданно второй офицер заорал на меня:
– А если бы перед тобой на парту голую бабу положить, ты бы её тоже не заметил?
Я вздрогнул, съёжился и промолчал, вполне осознав, что шутки кончились теперь уже окончательно. Эти люди могли быть не только вежливыми, и разговаривать они умели в очень разных тональностях.
Кстати, лет 20 спустя, работая в областной газете, я познакомился с одним полковником налоговой полиции. Это был очень интересный человек, и наше общение быстро стало неформальным. Он рассказал мне, что когда-то служил в КГБ, причём именно в 5-м, идеологическим отделе. Я коротко пересказал ему ту давнюю историю и, кажется, начиная узнавать того офицера, который орал мне про «голую бабу», с улыбкой у него спросил: «Это не вы были?». «Нет, не я», – сухо ответил он. Но это был он. Я не стал на этом настаивать, у меня не было к нему претензий.
А тогда началась целая череда разных собраний и заседаний, имевших целью заклеймить зелёных антисоветчиков и вынести по ним решение. Мой товарищ, не присутствовавший при порче парт в шутку назвал это «суд над бандой четырёх». Мы всё ещё старались бодриться и продолжали шутить.
Сначала, кажется, было комсомольское собрание всего курса. Девчонки, с которыми мы были в дружеских отношениях, старались нас как-то поддержать и выручить. Помню одна милая девушка в начале собрания встала и резко заявила: «Это комсомольское собрание. Прошу всех некомсомольцев покинуть аудиторию». Это было «зело борзо», она фактически попыталась выгнать с собрания всех преподавателей, но формально её за это трудно было упрекнуть, в её реплике можно было даже усмотреть некий комсомольский задор, то есть нечто вполне правильное. Но парторг факультета, преподаватель лет сорока, в ответ взвился орлом: «Я протестую, мы, коммунисты, имеем право присутствовать на комсомольских собраниях».
С каким священным пафосом он произнёс своё коронное: «Мы, коммунисты…». Через десять лет этот человек уже делал карьеру в демократическом лагере, и это у него неплохо получалось, он дошёл до «степеней известных», во всяком случае в посольстве США в Москве его хорошо принимали.
Тогда никто сильно не настаивал на том, что я видел, как идёт антисоветская работа и не воспрепятствовал, и не донёс. Моё «не видел» никто сильно не пытался опровергнуть. Подловили меня на другом, предложив дать оценку тому, что произошло. Дескать, если ты тут ни при чём, тогда выступи с осуждением политически незрелых действий своих товарищей.
И я сказал то, что на самом деле думал. Это не потребовало от меня никакого напряжения, мне казалось естественным говорить именно то, что я думаю. Ведь если бы я спросил у них: «Мне говорить то, что я на самом деле думаю?», любой из них, ни на секунду не задумавшись, сказал бы: «Да, разумеется, это само собой». Ну вот я и выдал им плод своих горестных раздумий: «Это бытовое хулиганство, примерно то же самое, что бить стёкла в окнах, не более того».
И вот за эту-то оценку в меня уже вцепились, склоняя на все лады. Получилось, что я вообще не увидел в происходящем политики. «Это что за близорукость такая? Да такая позиция ещё похуже, чем сами надписи». Но я собственно имел ввиду, что мои товарищи – никакие не антисоветчики, что политикой они не интересуются, онипросто хотели нахулиганить. Это была правда. Но это была не та правда, которую хотели от меня услышать. Моя позиция совсем не вписалась в логику политического разбирательства.
Трепали меня на совесть, от души. И не помню уже в ответ на какой вопрос я сказал: «Потому что у меня пассивная жизненная позиция». Я опять сказал то, что думал на самом деле. Но это уже ни в какие ворота не лезло. Как это у комсомольца, у будущего учителя, который должен будет воспитывать детей в духе политики партии, может быть пассивная жизненная позиция? «Тут ваще началось, не опишешь в словах».
Почему я тогда не захотел сказать то, что от меня хотели услышать, чтобы они отвязались и успокоились? Откровенно говоря, мне это и в голову не пришло, никакой внутренней борьбы во мне не было, я не осознавал, что у меня есть выбор: прогибаться под «ярко красных» или не прогибаться? То есть я не видел в своём поведении никакой упёртости. Старшие всегда учили нас честности, вот я и старался быть честным. А что такое?
Это может показаться инфантильной наивностью, но вы знаете, и сейчас, по прошествии 33-х лет, я поступил бы точно так же, но сейчас это было бы результатом осознанного выбора, а тогда это была естественная, почти интуитивная честность. Ведь честным быть хорошо? Разве не так?
У меня вызвали в институт отца. Парторг сказал ему: «Мы не стали бы вас беспокоить, если бы не та позиция, которую занял ваш сын». А о чём говорили – не помню. Видимо, парторг просто разводил пустопорожнюю коммунистическую демагогию, которую в памяти удержать невозможно. Конечно, отцу тогда было неловко, но ни «до», ни «после» он меня ни за что не ругал и не стыдил. Вообще, отец был щедр на шумные разносы, когда считал, что я провинился, но тогда он, видимо, не усмотрел в моих действиях никакой вины.
Через некоторое время наш физрук рассказал мне, что ему сказала декан: «Мне больше всех понравился отец Серёжи Катканова». Тогда я не понял почему, а сейчас я её понимаю. Отец, может быть, слегка оробел от того, что ему приходится разговаривать с руководителями, имеющими учёные степени, но он держал себя с достоинством, не лебезил и не заискивал, да он этого и не умел. При этом он ничего из себя не изображал, держался скромно, не пытался понравиться и оправдаться. Он просто выглядел нормальным мужиком. Вот и всё.
Кстати, из нас четверых я один был сыном рабочих. У остальных родители были с высшим образованием и работали в разных сферах руководителями разных уровней. В те годы уже не принято было кичиться пролетарским происхождением, и я не кичился, но и не стыдился его никогда. А сейчас я очень рад тому, что вырос в простой рабочей семье. Это сделало меня внутренне богаче тех, кто вырос в семьях рафинированной интеллигенции. Для них так и остались закрытыми, непонятными некоторые стороны жизни, которые для меня всегда были понятны и открыты.
А наш декан была женщиной умной, волевой и честной. Я всегда её уважал. Однажды в личной беседе со мной всё по тому же поводу она почти вспылила: «Я всё-таки не понимаю этого. Ну можно говорить о том, Брежнев хороший или плохой, но ведь тут речь о наших основах». Если по ходу всех разбирательств мне и было хоть раз стыдно, так это в тот момент. В самом деле, если мы не посягали на основы, так зачем было над ними потешаться? Ведь мы же ни секунды не сомневались в том, что социализм лучше капитализма, почему же тогда из нас пёрла эта игривая антисоветчина? Она сказала «не понимаю», а я и сам, может быть, только сейчас это понял.
Да, мы не сомневались в том, что революция сделала жизнь людей гораздо лучше, чем была при царе. Мы не сомневались в том, что на Западе простые люди живут гораздо хуже нас. Но то, что мы видели вокруг себя ни на что нас не вдохновляло, нам казалось смешным служить «делу партии». Мы верили в то, что социализм есть благо, но мы его не любили, он был нам неприятен. Поэтому мы так легко над ним иронизировали.
Помню, мне поручили провести политинформацию по поводу речи Брежнева на какой-то конференции. Отказаться было нельзя, а всерьёз говорить о том, какие важные истины открыл нам Леонид Ильич, не представлялось возможным. Я нашёл такой выход: выделил в речи ключевые фрагменты и зачитал их глумливо-ироничным тоном. После этого товарищ полушутливо сказал мне в курилке:
– Ты чё это над Брежневым решил поиздеваться?
– Что значит поиздеваться? Я ни одного своего слова не сказал. Только цитаты из Леонида Ильича.
– Но интонация…
– Ну… Интонацию к делу не пришьёшь.
Такими мы были. Такими нас сделала общественная атмосфера, в которой мы выросли. Никто советскую власть не отрицал, но все над ней смеялись. Это была атмосфера всеобщего нигилизма.
Очередным и, кажется, заключительным актом того «общественного осуждения» было заслушивание нас на каком-то партбюро во главе, кажется, с парторгом всего института. Диалог, который там произошёл, я вот уже 33 года помню дословно. Парторг спросил меня:
– Вы не изменили своего отношения к тому, что произошло?
– Изменил.
– И как вы сейчас это оцениваете?
– Это следствие отсутствия идеалов.
– А у вас есть идеалы?
– Затрудняюсь ответить на этот вопрос.
– Да уж… После того, что произошло, ответить на этот вопрос и правда затруднительно… Честность и порядочность – вот идеалы.
Тогда с меня ничего больше не спрашивали, а я молча подумал: «Он совершил подмену понятий. Честность и порядочность – не идеалы, а нравственные качества». Забавно, правда? Идеологический работник даже не знал, что такое идеалы, то есть он и сам их не имел, а смотрел на меня с каких-то недосягаемых высот, как на дурачка-несмышлёныша. Потом этот парторг занимал руководящую должность в структурах демократической власти. Сейчас я мог бы сказать ему: «У меня теперь есть идеалы. Я их искал и нашёл. А у тебя и тогда их не было, и сейчас нет». И доныне эти старые партократы, бойцы идеологического фронта, когда речь заходит об идеологии, просто не понимают, о чём идёт речь.
Тогда я сказал, что изменил своё мнение только потому что на самом деле его изменил, впрочем, это было скорее развитие, чем принципиальное изменение первоначального суждения. Они всё требовали от меня оценок, они заставляли меня думать. Вот я и думал. Вот я и поделился своими выводами. Ведь этого же от меня хотели? Разве не так? Не тому бы лукавому парторгу учить того мальчишку честности. Впрочем, когда он спросил: «А у вас есть идеалы?», я дрогнул. Абсолютно честный ответ должен был бы звучать коротко: «Нет». Но я чувствовал, что такой ответ уже окончательно перейдёт за грань допустимого. Эту грань я уже боялся переступать. Но ведь не соврал же. Всё равно же не сказал того, что они хотели от меня услышать.
Я много раз прокручивал в памяти ту ситуацию и могу с чистой совестью сказать, что мне не стыдно за своё поведение. А им? «Отцам», которые устроили то судилище над пацанами когда-нибудь потом было стыдно? Думаю, что нет. Годы спустя я много раз брал интервью у бывших парторгов, которые поразительно хорошо интегрировались в демократическую власть. На вопрос о прежних временах они все отвечали примерно одно и то же: «Ну тогда такая система была». Они, кажется, искренне не могли понять, что не так? Была такая система, говорили, что эта система хотела, стала другая система, начали говорить нечто прямо противоположное. А как ещё-то?
Помню, один такой представитель хозноменклатуры, метивший в демократические мэры, сказал: «Считаю, что я был хорошим коммунистом». Он сказал это очень искренне и так же искренне начал доказывать, что теперь он готов стать таким же хорошим антикоммунистом. Главное – быть хорошим. И тогда тебе обязательно дадут хорошую должность.
Мне, конечно, не известно, как обсуждалась мера нашего наказания, и кто какие вносил предложения. Уверен, впрочем, что декан была за нас, то есть за то, чтобы не наказывать нас слишком строго. Я многому научился у этой удивительной женщины. Я видел в ней редкое сочетание жесткости и человечности, потом я всю жизнь считал, что так и надо.
Чёрный полковник, конечно, был за то, чтобы стереть нас в порошок, но у него тогда, я думаю, было не лишка влияния. В конечном итоге пацанов пощадили, не стали ломать им жизнь, то есть не исключили из института.
А наказание нам вышло очень интересное: всем четверым – строгий выговор по комсомольской линии. То есть двух создателей антисоветских граффити, меня, который ничего не делал и нашего четвёртого товарища, который при этом даже не присутствовал, наказали одинаково. Это было чисто по-сталински, когда при определении наказания степень вины вообще не имела значения. Году этак в 30-м нам нарезали бы лет по 5 лагерей, а с 1937-го по 1952-й всех четверых расстреляли бы. Наказание тоже было бы одинаковым, но другим.
Значительно позже я понял, что партийные боссы института как раз и хотели организовать что-то вроде коллективного и единодушного осуждения отщепенцев, какие практиковались при Сталине. Как тогда на всяких собраниях проклинали бывших коллег, якобы предавших советскую власть, так и сейчас хотелось. Но эпоха была другой и на выходе получилась пародия на «гневное осуждение трудящихся». Лютая прагматичность сталинской мясорубки была уже невозможна. Брежнев был самым точным символом нашей эпохи – еле ходит, с трудом говорит и ничего не соображает. Эпоха не стала добрее, она стала слабее. И мне это моё «говорю, что думаю» сошло с рук просто потому, что на него не знали, как реагировать. У них не было никакой правды, которую они могли бы мне противопоставить, потому и не наседали на меня слишком сильно. И резонансного политического процесса не стали устраивать не столько по доброте душевной, сколько из страха – и так получилось «пятно на весь институт», так как бы не вышло «пятно на всю область».
Власть уже боялась сама себя активно защищать. В нашем деле проявилась, прежде всего, ужасающая идеологическая немощь власти. Как вы думаете, почему советская власть вскоре рухнула?
***
Эта история хорошо накладывается на дневниковые записи 1982-го года, хотя в моём дневнике о ней почему-то нет ни слова. Почему мне не хотелось тогда наедине с самим собой поразмышлять на эту тему? Точно не из страха делать компрометирующие записи. Власть была противная, но не страшная. Но тогда мне интереснее было писать в дневнике о перипетиях отношений с девчонками. Это как-то больше увлекало. И ведь совсем не потому, что девчонки интересовали меня больше, чем вопросы идеологии. Я ведь как раз и жил в мире всяких разных идей. Но, видимо, я чувствовал, что от поисков второй половинки в моей жизни что-то зависит, а от тоскливых перипетий брежневской политики не зависит ничего. Это было скучно. А в годы перестройки политика захватила меня чрезвычайно, и я писал о ней много, но уже не в дневник, а для газеты, впрочем, так же искренне.
Сиреневая даль
В дневнике 1984 года так же нет ни слова о том, как я ездил в деревни на практику. Тут вроде было о чём написать, а не хотелось, не знаю даже почему. Я написал об этих путешествиях в 1999 году, уже опять-таки для газеты. Сейчас, в 2015 году, думал, что те давние публикации придётся заново переписывать – пришло время на многое посмотреть по-новому, к тому же я теперь могу позволить себе больше откровенности, чем когда писал для газеты. Но вот перечитал вырезки из газет и понял, что ничего тут не надо переделывать, лучше всё оставить, как было. Осмысление тех событий у меня осталось прежним, а уровень откровенности там и так зашкаливает. Может лишь местами что-то добавлю.
Ошибка резидента
Ранним морозным утром автобус уносил меня в сторону Сямжи. Было очень холодно, я задубел так, что всё нутро тряслось – щелеватый автобус насквозь продувался. Рядом со мной сидела симпатичная девушка, на которую я время от времени поглядывал, не решаясь заговорить. Вдруг она неожиданно спросила меня: «Вы не замёрзли?». Сейчас я, конечно, буркнул бы, что у меня давно уже зуб на зуб не попадает. Но тогда мне было 20 лет, я ехал в сиреневую даль, и вот уже прямо в дороге начались приключения – очаровательная особа хочет со мной познакомиться, к тому же с первых слов проявляя обо мне заботу. Ну конечно же я ответил: «Ни сколько не замёрз». И тут незнакомка раскрыла свой коварный замысел: «Тогда пересядьте, пожалуйста, к окну». Мне стало горько и смешно. У окна, действительно, было ещё холоднее, а знакомиться после этого всякое желание пропало.
Тогда я получил первый урок, из которого следовало, что путешествия по сельской глубинке, конечно, бывают полны приключений, но в основном таких, вспоминать о которых становиться приятно лишь через много лет. В ближайшие 2 месяца, последовавшие за этим морозным рейсом, я получил ещё много уроков, хотя покинул отчий дом с целью прямо обратной – давать уроки другим. Студент третьего курса педвуза ехал на первую в своей жизни практику. И не просто на практику, а на замещение, то есть мне предстояло работать на полную учительскую нагрузку и получать за это зарплату. Можно, конечно, было остаться в городе и проводить по 2 урока в неделю, но мне хотелось странствий.
С тех пор прошло полтора десятилетия. Я никогда не забывал своих первых уроков, но только сейчас почувствовал насущную потребность всё осмыслить и изложить. Когда земная жизнь до половины пройдена, можно посмотреть на свою молодость взглядом постороннего, однако ещё не совсем чужого человека. Первые уроки уже хорошо впитались, но ещё не начали выдыхаться, не потеряли значения и смысла. Чувствую, что если буду вспоминать об этом под старость, то просто придумаю себе такую молодость, которую всего удобнее иметь. А сейчас меня пока ещё интересует, как всё было на самом деле.
Я ехал в Сямжу, хотя мне надлежало оказаться в посёлке Исаково Вожегодского района. В Вожегодском РОНО мне объяснили, что попасть в Исаково можно только сначала вернувшись в Вологду, а оттуда доехав до Сямжи, из которой впрочем не было до Исакова никакого регулярного транспорта. Там на автостанции меня должны были встретить и отвезти до места на машине.
Всё это поразило меня до глубины души: дорога между 2 точками внутри одного района лежала через областной центр и ещё соседний райцентр. Что там вообще за места, если приходится делать объезд в несколько сот километров? Не менее удивительным показалось мне и то, что к довольно крупному населённому пункту не приближается вообще ни один рейсовый автобус. А разве не забавна была просьба, высказанная в РОНО: не менять верхнюю одежду? Они собирались описать её шофёру для опознания меня на автостанции в Сямже. Для полного сходства со шпионским романом оставалось только придумать пароль.
И вот я, окончательно перемороженный, вывалился наконец из автобуса на автостанции в Сямже. Зашёл внутрь, но там было не теплее. Снова вышел на улицу, меня никто не опознавал, никто не проявлял ко мне ни малейшего интереса. Стало не по себе. Что же это, думаю, явка что ли провалена, связной арестован? Развлекая себя подобным юмором, я ещё не понимал всей сложности своего положения. Дело в том, что в РОНО я на всякий случай поинтересовался, сколь далеко от Сямжи до Исакова. Сказали, что 16 километров, так что я в крайнем случае надеялся проделать это расстояние пешком.
К этой мысли в конечном итоге и пришлось склониться, потому что проведя на автостанции пару часов, я так никого и не заинтересовал своей персоной. Узнав направление, тронулся в путь, навьюченный, как верблюд. Не много тогда ещё приходилось ездить и, по неопытности, я набрал с собой кучу лишних вещей. Вот уже автостанция скрылась за холмом, зимний большак понемногу затягивал молодого бродягу…
Не знаю, что со мной стало бы, если бы не встретил на безлюдной дороге случайного прохожего. Слава Богу, на всякий случай спросил у него, далеко ли до Исакова? Мужчина посмотрел на меня, как на ненормального, и сказал, что 40 километров. Я был ошарашен. Что-то там в Вожеге перепутали или я не так понял. Идти вперёд не имело смысла и я, как побитая собака, поплёлся обратно на автостанцию, потому что ничего другого не оставалось.
Я снова сидел в зале ожидания – продрогший, голодный, окончательно деморализованный. Тупо глядел себе под ноги и ни о чём не думал. Даже в Вологду сегодня возвращаться было уже поздно. Так прошло ещё несколько часов, и вдруг я услышал за спиной в негромком разговоре слово «Исаково». Обернувшись, я задал совершенно бессмысленный вопрос: «А далеко до Исакова?». Ответ был: «90 километров».
Шпионский роман с опознанием резидента закончился. Началась «Алиса в Зазеркалье». Сначала до Исакова было 16 километров, потом – 40, а теперь – 90. Чем дольше я торчал здесь на одном месте, тем дальше становилось Исаково. Ближе к ночи, думаю, до Исакова станет уже километров 200, а к утру и Вологда может отодвинутся на тыщёнку километров.
Гораздо позже понял, что 16 километров мне, видимо, назвали до Исакова не от Сямжи, а от Гремячего, куда теоретически можно было добраться на лесовозе, хотя такой запасной вариант мне никто не расписал, а 40 километров мужик на дороге назвал, наверное, до отворотки, хотя хрен ли мне была эта отворотка? А тогда я просто окончательно обалдел. У меня больше не было вопросов вообще ни к кому.
Но из-за спины неожиданного донеслось: «Не переживай, сейчас тебя довезём. Ты ведь учитель?». Душу окатило тёплой волной. И от того, что меня первый раз в жизни назвали учителем, и от того, что мелькнул луч надежды. Я кивнул, боясь что-либо уточнять, а мой спаситель, выдержав паузу, сказал: «Утром машина сломалась, поэтому и не встретили тебя. Сейчас она приедет».
Как потом выяснилось, мой спаситель был мужем директора школы, и через пару часов мы на «газончике» подкатили к дверям директорского дома.
Директор была женщиной лет, наверное, 45-и. Она встретила меня, как тётушка любимого племянника после долгой разлуки. Тут же была открыта и разогрета целая банка тушёнки (страшныйдефицит в те времена). А потом меня, сытого и согревшегося, директор проводила до квартиры, где мне предстояло жить. Квартира была натоплена специально к моему приезду. От такого приёма я чуть не разрыдался. Господи, думаю, да на что им так нужен ничего не умеющий студент? Вокруг меня так хлопочут, как будто встречают бесценного специалиста, а я вот возьму да и не сумею ни одного урока провести. Было тепло и страшно. Но удивления мои на этом не закончились.
Утром, едва я встал и, согрев чайку, начал уплетать печенье, которое мама напекла мне в дорогу, в дверь постучали. На пороге стояла директор с буханкой хлеба в руках: «Я подумала, что у вас хлеба нет и позавтракать нечем. Возьмите, а картошки я вам вечером принесу». Не удивительно, что после всего этого к первому своему уроку я готовился больше четырёх часов.
Когда я провёл свой первый урок, мне показалось, что я занимался этим всю жизнь, в работе учителя, как выяснилось, было что-то очень естественное для меня. Я вышел из класса внутренне сияющий и подумал, что сейчас зайду в учительскую и скажу: «Поздравьте меня с первым уроком». Но в учительской на моё появление никто и внимания не обратил. На несколько секунд я растерялся от того, что нет оркестра, но сразу понял, что это даже здорово. Меня приняли, как своего. Учитель (полноценный учитель!) зашёл после урока в учительскую. На что тут внимание обращать?
Потом я понял, что с моими уроками далеко не всё гладко, есть безумного много самых разнообразных методических требований, и соответствовать всем почти невозможно. Но директор, присутствуя на некоторых моих уроках и утраивая потом «разбор полётов», всегда была очень деликатна и доброжелательна. Она никогда меня не ругала, я слышал от неё только тёплые материнские советы: лучше бы вот это в следующий раз сделать по-другому.
А по субботам ко мне приходил муж директора и отводил меня в баню. Они сначала сами мылись, а потом меня звали.
Скажите, хоть один из городских учителей когда-нибудь испытывал на себе такую личную заботу директора школы? Я оказался среди людей, которые кружились вокруг незнакомого человека, словно это было самое дорогое для них существо. Я увидел людей совершенно другими глазами. Хотя глаза вроде бы оставались прежними, это люди были другие, но в том-то всё и дело, что уже и глаза начали меняться. Моё фантастическое путешествие в Исаково так же фантастически и продолжалось.
На поленьях смола, как слеза
В Исакове я полюбил одиночество. Приходил из школы, отдыхал, читал Ремарка, потом растапливал печку, готовил ужин – жаренную картошку или суп из пакетов с добавлением картошки. Газовой плиты не было, еду готовил на печке, на открытом огне. Для молодого горожанина в этом была бездна романтики. И всё это спокойно, не торопясь, под лениво журчащие мысли. А потом готовился к урокам.
Школа не выжимала, не выматывала. Я вёл уроки в двух классах, в одном из которых было 4 человека, а в другом – 6. Когда в классе заняты 2-3 парты, особых проблем с дисциплиной не возникает. Выдав русский язык и литературу, проводил ещё и физкультуру, что сводилось к тому, что мы просто катались с детьми на лыжах. Потом я шутил: мне платили деньги за то, что дети учили меня на лыжах ездить.
Я жил в здании интерната, в комнате с отдельных входом с улицы. До школы ходьбы было – 2 минуты, а потому и высыпался хорошо. Спокойные дни и безмятежные вечера, чистые детские глаза, Ремарк, потрескивание поленьев в печке в абсолютной тишине… Неделя летала за неделей.

