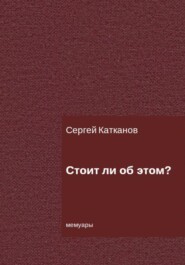 Полная версия
Полная версияСтоит ли об этом?
Итак, позиция по ближайшему номеру была определена: никаких протестов, но и никаких заискиваний. Почему-то эту позицию определил я – второй зам, то есть третий человек в редакции. Но по многим вопросам я мог выступать, как второе, а иногда и как первое лицо. Это была ответственность. И в тот исторический момент я оказался не на высоте своей ответственности.
Ко мне на минуту заглянул товарищ, я посмотрел на него мутным взглядом и сказал: «Слушай, а пошли водку пить?». Уж не знаю, что меня больше взбесило, жилищный облом или ГКЧП, но мне захотелось напиться. И мы пошли в ресторан «Север».
Почему же я пошёл пьянствовать, хотя явно должен был оставаться на рабочем месте, когда решалась судьба страны? Так дело в том, что я был уверен: судьба страны уже решена и решать ту больше нечего. Это очень по-русски: принимать новую власть, как данность, как факт, совершенно без мысли о том, что от нас тут что-то может зависеть. Нет, мне отнюдь не было наплевать на страну. Я просто был уверен, что страна уже погибла. «Доктор сказал: «в морг», значит в морг».
Когда мы шли в ресторан, по дороге я встретил знакомого предпринимателя. Он говорит: «Ну что, пора оружие откапывать?». Я в ответ кисло улыбнулся. У меня не было закопано. У него тоже. Потом одна знакомая учительница литературы рассказала, что подумала тогда: «Если опять заставят преподавать Демьяна Бедного, я уволюсь из школы».
Мы сидели и пили. Не сказать, что роняли слёзы в рюмку. Просто пили. Спускаемся вниз покурить, а там один мужичина нам говорит:
– Ну чё, мужики, последние деньки гуляем?
– Почему «последние деньки»? – мрачно ответил я. – Последний денёк.
Да, в нашей среде было ощущение конца света. Хотя представляю, как встрепенулись тогда от радости краснопёрые.
Мой товарищ сказал: «А ведь перестройка закончилась… Как интересно будет называться следующая эпоха?».
Как же она называлась? Тогда, кажется, говорили «годы реформ». А под каким названием вошла наступившая эпоха в историю? Под очень простым названием: девяностые. Да, девяностые начались в конце августа 1991 года.
Мы почему-то не напились тогда. Вечером я ещё смотрел по телевизору пресс-конференцию Янаева. А утром я пошёл на работу. Похмелье я всегда переносил очень тяжело, если бы сильно напился, так и вообще не встал бы утром. А тут – встал, хотя было очень хреново.
А на работе мне такое рассказали… Оказывается, тут вчера вечером целая битва была. Во второй половине дня появились указы Ельцина, объявившие создание ГКЧП незаконным. То есть у людей появился выбор между двумя политическими силами, а перед нашей редакцией встал вопрос: печатать указы Ельцина или нет? Вопрос был острый. Если бы ГКЧП победил, нам бы за это крепко влетело. Первый зам твёрдо сказал: «Будем печатать». Редактор встала на дыбы: «Никаких указов Ельцина, мне ещё детей надо на ноги поставить». У неё было пятеро детей. А у первого зама – только трое. Вот эта-то разница в количестве детей, очевидно, и породила разницу в политических позициях.
Первый зам победил, указы Ельцина мы напечатали, ещё когда отнюдь было не ясно, что он возьмёт верх. Наша редакция выбрала свой путь. А я в этом не участвовал. Мне было стыдно, но меня никто ни в чём не упрекнул. Утром 20 августа буза ещё только началась, нам надо было её освещать. Эту ответственную работу доверили мне. Такую работу нельзя было делать человеку уровнем ниже заместителя главного редактора. Потом я написал об этом статью под названием «Трещина». Историческая, однако, статья. Приведу её здесь почти полностью.
***
Сейчас, когда я пишу это – 22 августа, 8 часов 15 минут. Только что по второй программе радио слышал живой гневный голос Горбачёва. Снят ещё один вопрос – о физической судьбе президента СССР. Когда вы будете держать в руках субботний номер, станут, наверное, известны ответы и на другие вопросы. Но я их ещё не знаю. Я хочу рассказать о работе горсовета Вологды 20 и 21 августа с позиции указанного часа.
Вчера, в начале пятого вечера, несколько депутатов в большом зале горсовета слушали радио. Было объявлено, что государственные преступники арестованы. Страшное напряжение этих дней схлынуло. Объявление не соответствовало истине, преступники на тот момент летели в самолёте, но главное было правдой – попытка государственного переворота – провалилась.
Депутат А.А. Субботин, сидящий рядом со мной, говорит: «А интересно было бы посмотреть на всё, что с нами сейчас происходит, лет через 50». Я говорю, что тоже не отказался бы от такого подарка, но принял бы и более скромный: заглянуть в будущее хотя бы на 50 часов.
Всего три дня, и столько отношений к происходящему. Первое – шоковое. Заявление хунты по радио. Новая власть. Второе – тревожное. Указы Ельцина. Две власти. Третье – радостное. Преступники бежали. Прежняя власть. И три типа людей, которые радовались и огорчались попеременно, а так же вечное болото между ними.
Прокрутим плёнку на два дня назад. С утра – экстренное заседание президиума горсовета, в 16 часов – попытка созвать чрезвычайную сессию, которая не состоялась из-за отсутствия кворума (пришло 100 депутатов из 200). Но на состоявшемся вместо сессии депутатском собрании было сделано главное – выработана позиция.
Депутат областного совета О.Я. Никитин сказал о том, что на заседании президиума облсовета уже принято постановление, поддерживающее Президента РСФСР. Казалось бы, это должно было облегчить принятие соответствующего решения депутатами горсовета. Но Октавиан Яковлевич сказал и о другом: у них поддержали Ельцина 11 членов президиума из 20. Проголосуй всего 2 человека иначе, и власть хунты была бы фактически признана.
А потом ещё выступление городских отцов-командиров, далеко не каждое из них радовало слух. Полковник Карпов однозначно заявил, что будет следовать директивам вышестоящего командования, а на вопрос о том, как он относится к ГКЧП, ответил, что всё происходящее направлено на наведение порядка, оздоровление обстановки и т.д.
Н.Н. Белов, заместитель прокурора города, предложил подождать заключения Комитета конституционного надзора. Если ГКЧП будет признан законным…
С.М. Норкин, председатель Федерации профсоюзов Вологды, сказал, что хотя ГКЧП – незаконный орган, но он не видит причин для паники и политической возни. А в конце своего выступления даже посетовал: «Нам что, заняться больше нечем?».
Г.В. Судаков, председатель облсовета, подчеркнул, что нам ничто не угрожает и наши действия должны быть адекватны ситуации. В Москве – другое дело…
Но такого единодушия среди депутатов не приходилось наблюдать со времён застоя. Решение обратиться к жителям города с осуждением действий ГКЧП было принято единогласно. Это можно было бы списать на страх, но бояться приходилось скорее преступников у власти. Тем более, что перед самым голосованием Муртазин, находящийся в кабинете Лопатина, передал из Москвы, что Верховный совет окружён войсками и ожидается штурм. Объявили 15-минутный перерыв в ожидании новой информации. Четверть часа тянулись мучительно, новой информации не поступило. Тут действительно можно было испугаться, но ни один депутат не проголосовал за тех, кто, казалось бы, вот-вот захватит власть.
В чём состоял этот феномен ста процентов? Ведь общество раскололось, а горсовет был един. Но это не так. Горсовет тоже раскололся. В зале присутствовало сто депутатов. Представители второй сотни, безразличные, видимо, к судьбе Отечества, «соблюдали спокойствие» на своих рабочих местах или ещё где-нибудь. Из них, наверное, многие голосовали бы против, но эти так называемые депутаты предпочли вовсе не голосовать. Может, и к лучшему.
Депутатское собрание закончило работу в девятом часу вечера, но группа «Демократическая Россия» осталась. Прежде, чем продолжить работу, включили телевизор. По ленинградскому каналу шла трансляция митинга. Нам, оказавшимся в условиях информационного вакуума, слышать подлинно антифашистские выступления честных ленинградцев было как бальзам на раны. А в 21 час началась программа «Время» – телевизор будто подменили, будто какая трещина… Но так же внимательно слушали и всю эту мерзость, знать надо было как можно больше.
Однако, послушали и хватит, ждала работа. На собрании «Демократической России» присутствовали так же и коммунисты из группы «Демократическое действие». И никаких споров и разногласий ни по одному из принципиальных вопросов не было между этими вечными спорщиками и оппонентами. Перед лицом общей беды, действительно, не время выяснять отношения.
Была создана Инициативная группа по формированию городского стачечного комитета. Но президиум горсовета, который состоялся на следующий день в 7 часов утра, решение о создании стачечного комитета не поддержал. Проголосовало «за» большинство присутствующих, но отнюдь не большинство списочного состава. Это решение можно расценить по-разному. Можно, например, так: решение разоружиться перед лицом наступающего врага.
Депутатам «Демократической России» оставалось лишь самим выступить инициаторами создания стачкома. В 12 часов дня состоялась встреча представителей 15 трудовых коллективов города и решение о создании стачкома было принято. Но в 14 часов, когда в горсовет пришли руководители предприятий города, прошлось ещё раз столкнуться с давно невиданным единодушием. Только теперь оно имело обратный знак. Хунту, правда, осуждали, хотя и тут многие ограничились молчанием. А по поводу забастовки директора сказали следующее:
«Почему не подождать сессии Верховоного Совета РСФСР?».
«Вы отвлекаете нас от работы».
«Вы как будто в шутки играете».
«Вы представляете, что будет?».
«Зачем будоражить народ?».
«Кто ответит за материальный ущерб?».
«У нас одна задача – обеспечить ритмичную работу».
«Есть много других методов самовыражения».
«Не допустим создания новой некомпетентной структуры».
С одной стороны, директоров можно понять: они несут ответственность за производство, они лучше других понимают, что такое забастовка. Но неужели не ясно было этим людям: хунта подвела страну к ситуации, из которой без потерь не выбраться. Экономические потери,которые понесла бы республика от однодневной забастовки, были бы огромны. Но приход к власти хунты даже на один месяц, принёс бы убытки в сотни раз больше. Выступая против забастовки и экономя рубль, мы могли потерять весь бумажник. За деревьями не увидели леса, сиюминутные проблемы закрыли вид на перспективу. Но другое требует ответа. Почему такой переполох, если о забастовке и речь не шла? Говорилось только о создании стачкома.
Ряд руководителей, что называется, проболтались и ответили на этот вопрос. Сегодня будет создан стачком для борьбы с хунтой, и завтра этот же стачком потребует решения экономических проблем. Сегодня они потребуют увидеть на трибуне Горбачёва, а завтра – сахар на прилавках. Для кого-то очень страшно, что народ будет представлять собой организованную силу. Кто-то боится, что рабочие сплотятся вокруг созданного ими координационного органа – стачкома.
На заседании президиума, которое состоялось сразу после этой встречи, был создан другой координационный орган – комиссия по чрезвычайным ситуациям. Депутаты не проголосовали за её создание. Тогда председатель горсовета Е.И Ершов утвердил её своим личным распоряжением. В комиссию вошли представители исполнительной власти, милиции, КГБ, прокуратуры и военный комендант. Воздержусь от комментариев к этому факту, но структура нашей чрезвычайной комиссии – чуть ли не буквальный аналог другого чрезвычайного органа, для борьбы с которым она, казалось бы, была создана.
По странной иронии судьбы, сразу же после решения председателя горсовета о создании чрезвычайной комиссии в зал вошёл один из депутатов и сказал, что государственные преступники уже арестованы.
А встреча депутатов с вологжанами, которая была намечена на 18 часов на площади Революции, всё-таки состоялась. С другим смыслом, разумеется, ведь про забастовку речи уже не шло. Люди пришли, несмотря на дождь и на то, что ситуация утратила свою остроту. Выступил депутат горсовета С.А. Кароннов:
«Хотелось бы всех поздравить и закончить на этом, но предстоит ещё сделать выводы из того, что произошло. Была нарушена Конституция, однако, нельзя сказать, что в нашем городе чётко и организованно показали свою позицию по отношению к этому. Руководство облсовета не дало однозначной оценки попытке переворота. Ситуация в горсовете тоже абсолютно не удовлетворяет. Оттягивалось время проведения чрезвычайной сессии, текст принятого всё-таки обращения не достаточно отразил ситуацию. Как только речь заходила о стачкоме, сразу же говорили, что этого не надо. Когда ставили вопрос об организации этой встречи, чувствовалось противодействие. Мы не гарантированны от других антиконституционных действий той или иной группы лиц. Надо действовать оперативнее и однозначнее».
Встреча закончилась, дождь пошёл сильнее. Но люди не хотели расходиться, сгруппировавшись вокруг нескольких депутатов, задавали вопросы, высказывали свои мнения. Чувствовалось, что они ещё не отошли от всего происшедшего и отойдут не скоро. Трещина, расколовшая на две части нашу страну, за несколько дней углубилась и развела по разные стороны пропасти государственные службы, местные советы, всех нас. А многие, ранее противостоявшие друг другу, на сей раз оказались вместе. Трещина зарастает, но, думаю, люди неплохо запомнят, кто по какую сторону был, им будет легче ответить на вопрос: «За кем идти?».
***
Вот такую статью я тогда написал. Сейчас мне немного неловко за её яростный демократизм, но не за то, что я был против ГКЧП. Хотя мои политические убеждения с тех пор очень сильно изменились и многих из тех, с кем я был тогда в одной команде, я уже в середине 90-х считал врагами России. Я опять поддержал бы их, если бы мне сейчас удалось из марта 2015 года перенестись в август 1991 года, потому что тогда первоочередной задачей было убрать от власти коммунистов. Я говорю это, несмотря на то, что теперь мне уже известна та страшная цена, которую пришлось заплатить России за крушение советской власти.
Помню, какое волнующее радостное чувство я пережил, когда Ельцин издал указ о приостановлении деятельности КПСС на территории РСФСР. Ту свою радость я до сих пор разделяю. Коммунистическое чудовище рухнуло. Оно, правда, увлекло в своё падение всю Россию. Но Россия опять встаёт на ноги, а чудовище уже не вернётся.
Впрочем, тогда мы наивно радовались тому, что «победила демократия». Помню, вечером 22 августа мы сидели дома у первого зама, пили водку и смотрели телевизор. А по телевизору передавали шоу с Красной площади. Там разные эстрадные звёзды пели песни и все кричали: «С победой!». В какой-то момент мне стало не по себе от легкомысленности этого веселья. Первый зам спросил меня: «Ты чего помрачнел?». Я говорю: «Да как-то очень уж все веселятся. Неужели никто не понимает, что мы сейчас вступаем в тяжелейший период?». Я не ошибся. Россия вступила в девяностые.
А мой жилищный вопрос разрешился самым фантастическим образом. Редактор, сияющая, приходит из горисполкома и цитирует начальника жилищного отдела: «Нам вашему Катканову легче квартиру дать, чем общежитие». И резюмирует: «Сергей Юрьевич, пляши, тебе квартиру выделили». Не часто в жизни я испытывал такую сильную радость, как тогда.
Квартиру мне, правда, выделили в ещё недостроенном доме, но через год я уже в неё въехал. Это было самое настоящее чудо, за которое я всегда буду благодарен Богу и редактору.
Как я пришёл к вере
Православная вера для меня – как воздух без которого мне было бы нечем дышать. Без веры я не вижу в жизни ни малейшего смысла. Я с содроганием вспоминаю то время, когда не верил в Бога. Значит, тот момент, когда я из атеиста стал верующим – самый главный в моей жизни. И вот этого-то момента я совершенно не помню. Даже год не могу назвать. А у меня ведь хорошая память на прошлое. Местами даже слишком хорошая. Я в деталях помню все поворотные моменты своей жизни. Жена иногда удивляется: «Как ты всё помнишь?». Я развожу руками: «Такова моя особенность». Почему же я не помню самого главного? Потому что этого главного именно как события можно сказать, что и не было.
Я люблю интересные истории о том, как атеисты приходят к вере. Один стал свидетелем чуда, другого некое жизненное потрясение заставило уверовать, третий встретил человека, который изменил его отношение к религии. Но у меня ничего такого не было. Я помню время, когда я твёрдо знал, что Бога нет. Я помню время, когда я твёрдо знал, что Бог есть. Что же было между ними? Некий вялотекущий процесс, растянувшийся на неопределённое количество лет.
***
Атеистом я, откровенно говоря, был немного странным, мне всегда нравилось всё церковное, например, открытки, которые иногда появлялись в нашем доме. Мама поддерживала отношения с тётей Тоней Мурашёвой, которая была подругой её мамы, моей бабушки. И моя бабушка, которая умерла, когда мне было 5 лет, и тётя Тоня, которую я хорошо знал, и ещё тётя Лиза, родная сестра моей бабушки, которая жила в деревне Пески, где я часто бывал летом, были людьми «очень верующими», как я тогда говорил. Сейчас я понимаю, что очень или не очень верующим быть нельзя, они просто были людьми церковными. Это всегда вызывало у меня большое уважение, и ни тени протеста.
Бабушку я почти не помню, но вот один фрагмент нашего разговора врезался в память на всю жизнь. Я, видимо, что-то спросил её о Боге, хотя своего вопроса не помню, а она ответила: «Бог живёт на небе. Подрастёшь – всё узнаешь». Как часто подростком я вспоминал эти слова и думал: «Вот я подрос и узнал, что Бога нет». Я вспоминал эти слова и позже, когда уже был в Церкви и узнал, что бабушка была права.
Дома у нас в кухонном шкафу, почти незаметные, всегда стояли маленькие иконки. Они были для меня привычны, нисколько не раздражали, но ничего особо не значили. Кажется, именно по поводу этих иконок я однажды спросил маму: «Но ведь мы – неверующие?». Мама ответила: «Почему мы неверующие? Мы – верующие». Мне тогда было лет 13, мамин ответ меня немного удивил, но отнюдь не стал никаким потрясением. Родители, может быть, и ходили в церковь где-то раз в год, я этому значения не придавал, да, видимо, чаще всего об этом и не знал. Со мной разговоров о вере они никогда не заводили.
Иногда у нас дома бывала тётя Тоня Мурашёва. Это был интересный человек. По образованию – врач, она работала рентгенологом, но с работы её уволили из-за религиозных убеждений, о чём я, очевидно, узнал гораздо позже. Сейчас я понимаю, что тётя Тоня была исповедницей, то есть человеком, пострадавшим за веру. Это очень значимо перед Лицом Божьим, не каждому православному это дано. Я знал её пенсионеркой, она работала регентом в кафедральном соборе и была хорошо знакома со многими священниками. Она-то иногда и приносила к нам домой разные православные открытки или чёрно-белые фотографии со старинных открыток. Мне они очень нравились.
Помню, я устроил на своём письменном столе целую выставку под стеклом из таких «религиозных изображений». Мне тогда было лет 16. Моя сестра, которая моложе меня на 10 лет, чуть ли не со слезами спросила меня: «Ты что, верующий?». Это примерно равнялось вопросу: «Ты сошёл с ума?». Я поспешил её успокоить: «Нет, я неверующий, просто историей интересуюсь». Сейчас моя сестра, как и я – верующая, недавно мы с ней с улыбкой вспоминали этот эпизод из её детства.
А только ли интересом к истории был вызван мой подростковый интерес к религиозным открыткам? Это очень сложный вопрос, но думаю, что нет. Я не верил в Бога, но уже старшеклассником я хотел в Него верить, что хорошо заметно по моему дневнику. Кажется это была своего рода «игра в православие». Это примерно как ребёнок очень хочет быть солдатом, но не может, а потому играет в солдатиков.
Тётя Тоня никогда не говорила со мной о вере. Они с моими родителями видимо считали: если в школе будут говорить одно, а дома – другое, это ни к чему хорошему не приведёт. Может быть, они и были правы, хотя не уверен.
А вот с тётей Лизой в Песках мы говорили на сей предмет. Она иногда рассказывала мне какие-то религиозные истории, хотя ничего в память не врезалось. Она и меня любила послушать, что-нибудь такое «из истории». Помню, я рассказывал ей про Александра Македонского, о том, какой это был замечательный человек, а она удовлетворенно заключила: «Так ведь у нас вера-то греческая». Мы остались довольны друг другом. Хотя она тоже никак не пыталась на меня влиять, никакой «религиозной агитации» с её стороны не было.
Мне было, наверное, лет 17, когда я узнал, что у неё есть «Новый завет» – старый, ещё дореволюционный. Я попросил его почитать. Она разрешила. Я тогда приехал в деревню ненадолго, но «Евангелие от Матфея» успел прочитать, делая при этом выписки в блокнотик, который всегда был у меня с собой. Евангелие меня не потрясло, но заинтересовало, я узнал, что там есть интересные мысли. Я попросил у тёти Лизы разрешить мне взять «Новый завет» в Вологду. Она отказала, сказав, что читает его каждый день и расстаться с ним не может. Не сказать, что я сильно расстроился.
Тётя Лиза была человеком очень простым, не сильно грамотным и серьёзные религиозные вопросы мы с ней обсуждать не могли. А я в те годы очень хотел бы поговорить с каким-нибудь священником. Я отнюдь не собирался никого обращать в атеизм, мне просто было очень интересно послушать, что может сказать умный, но при этом верующий человек в защиту религии. Но поговорить с таким человеком у меня возможности не было.
Как-то воскресным днём я пошёл в церковь, ни слова не сказав об этом родителям (об этом есть запись в моём дневнике). Не знаю, что я там хотел увидеть или услышать, но эта реальность тянула к себе юного атеиста. Вообще, мне хотелось бы услышать проповедь священника, хотя, кажется, я на это не особо надеялся. Может быть, я пришёл слишком поздно, но литургии не было, а посреди храма стояло три гроба: два со старушками, один – со старичком. Я смотрел по сторонам, рассматривая убранство храма, а какая-то старушка ткнула меня в бок и, показав на гробы, сказала: «Смотри, больше не увидишь». Она была уверена, что в одном из гробов – мой родственник, а иначе откуда бы взялся в храме этот мальчишка? Кому могло прийти в голову, что мальчик пришёл в храм по своему личному желанию из своего личного интереса к религии?
Когда в 14-15 лет я писал стихи, некоторые из них касались религиозных вопросов. Были у меня омерзительно богохульные стихи (к тому же – тупо графоманские). Я их, к сожалению, до сих пор очень хорошо помню, потому что я вообще не часто что-нибудь забываю. Когда они мне вспоминаются, я сразу же включаю в голове гудение, своего рода глушилку, чтобы не поганить сознание глупой мерзостью. Тут всё понятно: мальчик выяснял отношения с Богом, в Которого не верил. Кажется, моё сознание всегда вертелось вокруг вопроса о Боге, как язык вокруг больного зуба.
А вот было у меня ещё одно стихотворение, которое мне никогда не нравилось и которое я никогда не включал в чистовые тетрадки со своими стихами, но которое помню наизусть вот уже без малого 40 лет. Это стихотворение удивительно тем, что написано мальчишкой лет 15-и, который даже мысли не допускал, что Бог может существовать.
Холодный мир земного горя
Душой принять я не могу
И, бесполезно с ним не споря,
К Тебе, о Господи, бегу.
Тоска по вере сердце гложет,
Тоска небесной чистоты
Никто понять меня не может,
Поймёшь, о Господи, лишь Ты.
Поймёшь, как сердце тосковало
Под градом гадких едких слов.
Пускай я грешен, и не мало,
Но я раскаяться готов.
Вдали от чуждых иноверцев
Свои грехи я замолю
И святость Бога чутким сердцем
Через мученья полюблю.
Одна надежда и отрада,
Одна в душе моей мечта.
Чтоб с верой чистою во взгляде
Узреть распятого Христа.
Откровенно говоря, это стихотворение и до сих пор мне не нравится. Какое-то оно слащавое и как будто фальшивое. Хотя вроде бы, ладное и складное и, что самое удивительное – вполне грамотное с православной точки зрения, то есть я не вижу в нём ничего, что принципиально противоречило бы православию и создавало его искажённый образ. Но ведь это написал мальчик не только не верящий в Бога, но и вообще ничего не знающий о православии. Ангел мне что ли это продиктовал? Конечно, ангел мог сочинить что-нибудь и получше, но, с другой стороны, ему приходилось сочинять в соавторстве со мной, так что ничего лучше получиться не могло. И так довольно неплохо вышло.
Может быть, мне не нравится это стихотворение потому что я знаю, что в нём обман: о вере в Бога пишет неверующий человек. Но если вы скажете, что оно очень даже неплохое, спорить не стану.
Ну вот откуда это взялось? А это классический феномен «русского мальчика», как будто прямо из романа Достоевского. Душа ребёнка, измученная атеизмом, не просто просила, а требовала веры, при этом будучи уверенной, что веры быть не может. Вам сейчас, наверное, трудно даже представит, до какой степени нам тогда казалось невозможным верить в Бога. То, что Бога нет, казалось нам совершенно незыблемой аксиомой, которую даже доказывать глупо, а опровергнуть совершенно невозможно.

