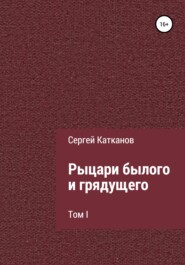 Полная версия
Полная версияРыцари былого и грядущего. I том
Андрей отстранённо и молча смотрел куда-то в сторону. Он ни о чём не думал, не пытался осмыслить сказанное отцом Августином. Его душа в безмолвном благоговении склонилась перед величием открывшейся ему тайны. Отец Августин, видимо, чувствуя, что происходит в его душе, ни словом не потревожил этого безмолвия. Потом Андрей сказал очень тихо и мирно, не испытывая даже намёка на душевное перевозбуждение:
– А ведь это, отче, величайшее чудо всех времён и народов. По сравнению с чудом Евхаристии все перечисленные вами «страшные тайны» масоно-тамплиеров кажутся жалкими, убогими, дешёвыми. Вы знаете, мне их жалко. Они, видимо, не способны постичь величие подлинного чуда и пытаются заменить его самоделками, суррогатами.
– Подлинно так, Андрюшенька, подлинно так. В таинстве причастия человек соединяется со Христом, душа человеческая получает свойства души Христа. Нет и не может быть на земле чуда выше этого. Дело совсем не в том, что ты видел. Господь сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие».
– Да, я понимаю. Чудо Евхаристии всё равно всегда совершается.
– Всегда, да не всегда. Многие причастники не осознают к чему они допущены, легкомысленно относятся к таинству, и чуда с ними не происходит. Они не перерождаются, не соединяются с Христом. Настоящее чудо – плод тяжёлого духовного труда, который тебе ещё предстоит.
– Как вспомню про тамплиеров, которые в железных доспехах жарились под палящим солнцем Палестины и всё переносили с радостью ради славы Христовой… Я, как и они, готов выдержать всё.
– Если это будет угодно Господу, Андрюша.
– Ещё хотел спросить. Таинство Причастия действительно как-то связанно с легендой о Святом Граале?
– Ну… Чашу Причастия можно бы и не называть Святым Граалем. Тайна всех тайн не очень-то нуждается в таком сравнении. Просто может быть, некоторым духовно немощным «искателям Святого Грааля» через этот образ будет легче постичь Таинство Причастия. К тому же, существует вполне конкретная историческая связь между этим таинством, легендой о Граале и нашим Орденом.
Тамплиеры всегда имели особо трепетное отношение к Крови Христовой. Они слишком хорошо знали, что такое кровь, и, может быть, поэтому Кровь Небесного Сеньора приобрела для них такое большое значение. Тому можно найти множество подтверждений, но достаточно узнать, что говорили храмовники на процессе. Раймон Гардиа, командор Ма-Дье, сказал про «белый плащ, на котором изображён почётный знак красного креста в память о Святой Крови, пролитой Иисусом Христом за верующих в Него». Ему вторил брат Беранже де Колль: «За то что Иисус Христос пролил за нас Свою Пречистую Кровь, мы носим кресты из красной материи на нашей одежде, чтобы пролить свою кровь в борьбе с врагами Христа». Значит, главный символ Ордена – красный крест был символом Крови Христовой.
И вот, представь себе, в XII веке Католическая Церковь запретила мирянам причащение Кровью Христовой. На Литургии освящались по-прежнему как Тело, так и Кровь Христова, но и тем и другим причащались теперь только священники, а простых христиан причащали только Телом. Значит рыцари Христа и Храма, простые монахи, оказались лишены того самого главного для них, что символически было изображено на их плащах. Для тех, кто по-настоящему пережил чудо Евхаристии, это могло стать настоящей трагедией. Уже в наше время «запрет на Кровь» назвали «литургическим предательством» Католической Церкви по отношению к своим мирянам. Тамплиеры могли возмущённо недоумевать: «Мы за Христа свою кровь проливаем, мы ради Христа отреклись от всех радостей жизни, а нас лишили Крови Христовой – нашей главной духовной пищи, нашей главной радости. Разве не за всех верующих в Него пролил Господь свою Кровь на кресте? Разве не сказано в Евангелии: «И взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал: пейте от неё все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставлении грехов».
Тамплиеры лучше чем кто-либо знали, что такое послушание и повиновение священноначалию, но в этом случае действия папского престола настолько очевидным образом расходились со Святым Евангелием, что они могли и не стерпеть. Тем более, что на Святой Земле у них была очень простая возможность проигнорировать папский запрет. Ведь православные никогда не запрещали причащение мирян Кровью Христовой, а в Палестине православных храмов было больше, чем католических. К тому же в XII веке разрыв между Православной и Католической Церквями ещё не стал фактом общественного сознания и если рыцарь-франк шёл в православный храм, то никто не обвинял его в измене своей церкви.
По всей вероятности, тамплиеры зачастили в православные храмы сверх обычного, привыкнув там причащаться Кровью Христовой. Отсюда один шаг до того, чтобы и у себя во Франции тайно проводить богослужения по типу православных. Вот тебе и «тайна тамплиеров». Впрочем, это тема не малая и отдельная, так же как и связь тамплиеров с православием.
– А при чём тут Святой Грааль?
– Терпи, Андрюша. К нашей теме с какого бы бока не приступил, а всё равно придётся уйти немного в сторону. Желающий понять тамплиеров должен отказаться от следования прямыми путями. О Святом Граале написана целая библиотека и никто не знает, что это такое. Кретьен де Труа, впервые запустивший само слово «Грааль» в литературный обиход, умер, не успев дописать свой роман «Персеваль» и, соответственно, не успев объяснить, что он разумел под Граалем. Ну и сыплются версии, как из рога изобилия, вот уже 700 лет. Их разбор мог бы стать делом всей жизни, только жалко тратить на это жизнь. Кажется, гораздо проще обратиться к первоисточнику и попытаться самим понять Кретьена.
Начнём с того, что родился Кретьен около 1130 года в самых что ни на есть тамплиерских местах, в Шампани, откуда родом был основатель Ордена тамплиеров. Орден только что официально утвердили. Он служил у Генриха, графа Шампанского, который был известен, как покровитель тамплиеров. Так что и сам Кретьен, скорее всего, был большим поклонником Ордена Храма. И персонажи его романов списаны, вероятно, с тамплиеров. Кстати, Вольфрам фон Эшенбах, продолживший тему Грааля, уже прямо называет хранителей Грааля храмовниками.
Так вот наш доблестный храмовник Персиваль видит в замке загадочного Короля-Рыбака ещё более загадочную процессию: «Появился слуга, несущий в руке копьё. Капля крови стекала с острия наконечника. Чаша Грааля, плывущая впереди, была из чистого листового золота. Как по началу копьё, Грааль и серебряное блюдо пронесли мимо ложа». Спорить о том, что за таинственные предметы проплыли мимо Персиваля могут лишь те, кто не имеет ни малейшего представления о Божественной Литургии. Тут же нет никакой загадки, это просто литургические принадлежности. Маленьким символическим копьём за Литургией пронзают «агнца» – просфору. Отсюда, не удивительно, что с копья, которое видел Персиваль, вечно капает кровь. Это символ Крови Христовой, которая, благодаря служению Божественной Литургии, ни когда не иссякает в этом мире. Чаша Грааля – Чаша Причастия. С серебряным блюдом ещё проще – это дискос – литургическая принадлежность.
Позднее Персиваль узнаёт, что Король-Рыбак тяжело болен и жив лишь благодаря тому, что ему приносят в Граале облатку. Мне кажется, тут всё настолько просто, что вовсе не стоило разводить полемику на семь столетий. Облатка – Тело Христово и только благодаря Его вкушению Король жив. А болен он потому, что ему не дают Крови Христовой. Здесь Кретьен да Труа символически изобразил главную тамплиерскую боль – лишение западных христиан Крови Христовой.
– А почему Персиваль не догадался, что стал свидетелем символического отражения Божественной Литургии?
– Да потому что он на тот момент был нераскаявшимся грешником, то есть слепцом. Представь себе, что ты впервые попал в церковь и вообще не понимаешь, что там происходит. Ты бы спросил – тебе бы объяснили, но ты не спрашиваешь, и чудо святого Причастия остаётся для тебя неизвестным, хотя оно прошло перед твоими глазами. Так же и Персиваль не спросил. Святой отшельник прямо говорит ему в чём причина: «Тяжёлый грех помешал тебе спросить о копье и о Чаше Грааля». Потому и позднейшие исследователи никак не могли разобраться, что же понимал сам Кретьен под Граалем. Их удалённость от Церкви, их нераскаянность мешали им увидеть в Граале то, что столь очевидно для любого христианина.
– А как вы думаете, Персиваль, по замыслу автора в завершении романа должен был понять, что такое Грааль?
– Да, конечно же. По канонам Церкви, путь к Чаше Причастия лежит только через исповедь, через покаяние. Об этом отшельник говорит Персивалю совершенно прямо, без иносказаний: «Святой человек призвал рыцаря исповедаться, объяснив, что грехи не могут быть отпущены без правдивой исповеди и покаяния». И Персиваль очень искренне кается: «Я забыл о Боге, я не верил в Бога, а только и делал, что неустанно творил зло… Я никогда не молил Господа о милосердии и ничего не делал, чтобы заслужить Его прощение…». Де Труа показал путь настоящего тамплиера. Рыцари, конечно, не были безгрешны, но их путь лежал через покаяние к постижению тайны Чаши Господней.
Теперь вспомним, какая главная задача стояла перед Персивалем – исцелить Короля-Рыбака. Надо было наполнить Святую Чашу Кровью Христовой. Надо было преодолеть последствия «литургического голода», вызванного «запретом на Кровь». Роман Кретьена де Труа – чисто тамплиерское произведение о Божественной Литургии. Кретьен скрывал свои мысли за символами, потому что не мог вступать в прямую полемику с Католической Церковью, но он явно не сомневался, что его прекрасно поймут. И тем не менее позднейшие подражатели Кретьена, жившие совершенно иными ценностями, превратили его Литургическую Песнь в заурядный приключенческий роман с элементами фантастики.
Мы, современные тамплиеры, понимаем под Святым Граалем именно то, что понимал создатель этого образа Кретьен де Труа – Чашу Причастия. Мы не особо нуждаемся в метафоре Грааля для обозначения Литургической Чаши, но поскольку тема Грааля стала предметом бесчисленных спекуляций, порочащих честь Ордена, мы бываем вынуждены напомнить, что означал Грааль для тамплиеров XII века. И в этом смысле готовы сказать: на наших белых плащах изображён Святой Грааль – символ Крови Христовой. И в этом символе нет ничего магического и оккультного.
Отец Августин замолчал и перевёл дух. Теперь он улыбался очень тихо и немного виновато:
– Извини меня, Андрюша, за это утомительное словоизвержение. Потом тебе обязательно пригодится понимание того, что я сейчас говорил. Итак, я доложу великому магистру о твоём желании вступить в Орден.
***
Сиверцев стал послушником Ордена. Его перевели в общее помещение, где стояли семь коек. Кстати, это были советские панцирные сетки. Где только откопала орденская братия эти по своему уникальные металлоизделия? Впрочем, Сиверцев не мучил себя этим вопросом. Другие бытовые вопросы его так же не сильно занимали. Если бы через месяц после того, как он поселился в орденской казарме, у него спросили бы, какого цвета там стены, он, наверно, не смог бы ответить, а может сказал бы: «Неопределённого», что было весьма недалеко от истины.
Шестеро послушников, среди которых он теперь жил, были разного возраста и, судя по всему, разных национальностей. Они едва обратили на него внимание. Саша, проводивший сюда Сиверцева, оставил его на пороге, предоставив самому разбираться с новыми сослуживцами. Андрей с порога поздоровался по-английски, сдержанно улыбнувшись. Ему ответили несколько голосов, но никто не подошёл и не протянул руки, никто не пытался с ним познакомиться. Трое сидели на койках и перешёптывались меж собой, один стоял перед большой иконой на стене с молитвословом в руке и нечто бубнил себе под нос, двое сидели за общим столом посреди комнаты с книгами. Пробежав глазами по их лицам, Сиверцев выдержал паузу и отчётливо по-английски спросил: «Какую койку можно занять?». На его вопрос обратили внимание не сразу, наконец, один из сидевших за столом оторвал глаза от книги и неожиданно доброжелательно сказал на ломаном русском: «Пройди по коридору. Будет дверь. Послушник Зигфрид. Он скажет». Широко улыбнувшись, юноша показал туда, где был этот самый коридор. Худощавый и черноволосый, с аккуратно подстриженной бородкой и белозубой улыбкой, этот юноша сразу же показался Андрею очень обаятельным. Элегантный, немного даже манерный жест тонкой руки с длинными пальцами обличал натуру артистическую. «Итальянец, наверно», – подумал Сиверцев и углубился в узкий коридорчик, как и было ему предложено.
Его встретила массивная, кажется дубовая дверь. Андрей постучал. За дверью послышался лёгкий шорох, но ответа не последовало. Андрей постучал во второй и в третий раз. Теперь тишина не порадовала его даже шорохом. Он вернулся в общую комнату и, виновато улыбнувшись, обратился к «итальянцу», рискнув сделать это по-русски: «Мессира Зигфрида нет». Юноша столь же доброжелательно ответил: «Послушник Зигфрид у себя», – сделав ударение на первом слове, и Андрей понял, что преждевременно возвёл искомого Зигфрида в рыцарское достоинство, а юноша, старательно подбирая слова, продолжил: «Вы молитву не прочитали. Надо было произнести: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Он ответил бы «Аминь» и открыл. На стук у нас не отзываются». Андрей в ответ посмотрел на парня так растерянно, что тот сразу же встал и удалился, вскоре вернувшись с Зигфридом.
На последнего стоило лишь взглянуть и не оставалось никаких сомнений – это Зигфрид. Нибелунг. Рост высоченный, сложение атлетическое, борода чуть рыжеватая, как это всегда бывает у блондинов, а глаза – невероятной голубизны. Выражение лица угрюмое до свирепости. Глядя на него, Сиверцев вспомнил фразу из старого советского анекдота: «Добрейшей души человек, а ведь мог бы и пристрелить». Посмотрев на Зигфрида под этим углом зрения, он сразу же избавился от растерянности, широко и приветливо улыбнувшись грозному тевтону. Он понимал, что его широкая улыбка граничит с наглостью, но не смог отказать себе в этом удовольствии. Зигфрид окатил его ледяным душем своего взгляда, но в лице не изменился и не проронил ни звука. Он молча указал Андрею на пустующую койку и сразу же удалился. Едва Сиверцев успел присесть на край кровати, как Зигфрид вновь появился и так же безмолвно положил на тумбочку рядом с кроватью мыло, зубную щётку, зубную пасту и ножницы. Никак не проявив способности к членораздельной речи, Зигфрид вновь удалился.
Андрей стал рассматривать нехитрые дары безмолвного тевтона. Мыло и зубная паста были французские, судя по всему – очень дорогие. На зубной щётке и на ножницах красовались магические для каждого советского человека слова: «Made in Japan». Самурайское производство. Сиверцеву никогда не доводилось держать в руках таких изысканных предметов, поражающих аристократической простотой. Он вновь подумал о том, как удивителен Орден. Здесь есть только самое необходимое и самое простое, но всё это – самое лучшее. То что Орден – братство настоящих аристократов, не было для Андрея открытием, но он удивился тому, что даже к послушникам здесь относятся, как к аристократам. Постельное бельё на кровати было самого лучшего полотна. Одеяло – верблюжье, тончайшей выделки. Бельё – белое. Одеяло – чёрное. Без намёка на рисунок. А ведь это по сути солдатская казарма. Он ещё не успел стать даже полноценным солдатом, а ему уже – всё самое лучшее. Как раз для того, кому предстоит чистить сортиры.
Рассуждения Сиверцева прервали тёплые и ломаные русские слова, от своей исковерконности становившиеся, кажется, ещё теплее:
– Братик трапезовал?
Сиверцев поднял глаза, увидев широко улыбающегося «итальянца». В тот день Андрею из-за хлопот, связанных с определением его дальнейшей судьбы, не довелось поужинать, а потому он, разумеется, ответил:
– Спасибо, я сыт
Потом, ещё раз глянув на икрящегося доброжелательностью «итальянца», решил добавить:
– Меня зовут Андрей. Я русский.
– Меня зовут Милош. Я черногорец. Мы – братья славяне.
– А что это за народ? Какая страна?
– Черногория – одна из республик Югославии. Черногорцы – те же сербы, только живущие на Чёрной горе. Мы немного отличаемся. Черногорцы, в отличие от остальных сербов, никогда не жили под турками, – Милош печально замолчал, видимо, обескураженный тем, что русский офицер ничего не слышал о его Родине, а потом счёл необходимым добавить:
– Черногорцы очень любят русских. У нас даже поговорка есть: «Нас и русских – двести миллионов, а нас без русских – полфургона».
– Я рад. Очень хорошо, что… нас с тобою – двести миллионов.
– Не удивляйся, Андрей, тому, как тебя встретили. Здесь с тобой никто не будет знакомится, пока ты сам не проявишь к этому желания.
Сиверцев в ответ просто улыбнулся и кивнул. Он не успевал осмыслить особенности той реальности, в которую попал. Позднее он ещё не раз отмечал эту удивительную особенность орденской казармы: здесь все были взаимно доброжелательны и подчёркнуто любезны, но говорили мало – ни один человек не обращался к другому без прямой необходимости. Каждый был вместе со всеми и одновременно – один. Никто не покушался на его автономность и не нарушал его уединение, которое, как оказалось, вполне возможно в комнате, где живут семь человек. Сиверцев не раз вспоминал слова из «Персиваля»: «Никто не имеет права отвлекать рыцаря от его размышлений». Они пока не были рыцарями, но ничто не препятствовало им жить по рыцарским правилам. Меж собой послушники разговаривали только шепотом, так чтобы их разговор никому не мешал. В полный голос здесь звучали только слова молитв, да ещё короткие и отрывистые распоряжения могучего Зигфрида, который, впрочем, появлялся в их комнате крайне редко.
Сейчас появление Зигфрида прервало разговор Андрея и Милоша. Тевтон встал у иконы Богородицы и все послушники сразу же, но совершенно без суеты выстроились у него за спиной. Все хором на латыни читали молитвы на сон грядущий. Андрей вместе со всеми молча крестился и делал поклоны, думая о скорейшей необходимости учить латынь. Сразу же после молитвы все улеглись на свои кровати как были – в одежде. Электричество выключили, но комната всю ночь освещалась огоньками лампад у иконы. Уснул Сиверцев сразу же.
***
Ему показалось, что град огромных гаек ударил по жестяной крыше. Он ошалело вскочил с кровати. Раннее утро. Часа четыре, не больше. Об этом приходилось лишь догадываться, потому что часов у Сиверцева не было. Один из послушников тряс какой-то железной погремушкой. Все сразу встали с коек, ни у кого, кроме Сиверцева не было такого ошалелого выражения лица. Видимо, послушники привыкли вставать в такую рань и под такой грохот. Появился Зигфрид, все строем отправились в церковь на богослужение.
На службе сознание Андрея так и не сумело вынырнуть из тумана. Он клевал носом, механически повторял движения братьев и только молча шептал про себя: «Господи, помилуй». Когда они вернулись к себе в комнату, им дали ещё часик поспать.
Потом Сиверцев, сопровождаемый Зигфридом, отправился работать. Тевтон при помощи нескольких отрывистых английских фраз, сопровождаемых энергичными жестами, объяснил Андрею, как и чем надо чистить туалеты, душевые, умывальники. Сиверцев взялся за дело, усмехаясь про себя: «В самый раз работа для офицера». Впрочем, он не чувствовал себя униженным и был очень рад, что оказался на первой ступеньке той лестницы, которая должна привести его к рыцарскому достоинству. К тому же места общего пользования в Секретум Темпли были весьма чисты и Андрею оставалось лишь поддерживать эту чистоту. Потом обед и опять богослужение. Потом опять работа, ужин и богослужение. К отбою он уже не держался на ногах, с трудом выстояв вечернюю молитву.
Так день за днём пролетела неделя. Всё это время Андрей никак не мог выйти из состояния гнетущего, муторного кошмара. Он с ужасом понимал, что богослужения стали ему теперь ненавистны. Он готовил себя к трудностям, но не предполагал, что будет настолько тяжело. Начали терзать сомнения, что он вообще способен к монашеской жизни. На молитве он не думал ни о чём, кроме гудящих ног, только тупо и обессилено бормотал про себя: «Господи, помилуй…». Он ничего не понимал и даже не пытался понять в богослужениях на разных языках. Он начал тихо ненавидеть самого себя за то, что так не любит теперь бывать в храме. Отсюда Андрея тянуло обратно к раковинам и унитазам, которые стали его единственными друзьями. Он готов был чистить их сколько угодно, только бы его опять не гнали в храм. Впрочем, его не гнали, он сам себя гнал. Он ходил бы в храм столько раз, сколько положено по Уставу, даже если бы его освободили от этой обязанности. Сиверцев был упёртым.
С Милошем они так до сих пор и не познакомились поближе. Тонкий, гибкий и пластичный, как пантера, черногорец всегда широко и радостно улыбался навстречу Андрею. В ответ Сиверцев так же пытался изобразить на своём лице дружелюбие, но гримаса получалась, надо полагать, довольно жалкой. Он не пытался разговаривать с Милошем, потому что утратил интерес ко всему на свете. Он хотел лишь одного – выдержать достойно эту невыносимую жизнь. Иногда он спрашивал себя: «Выдержу, а дальше что?». И каждый раз сам себе отвечал: «Дальше я должен полюбить эту жизнь». Но он всё меньше верил в то, что это возможно. Спину постоянно разламывало, ноги гудели, в голове стоял густой туман. Он ничего не читал и ни о сём не думал. Он совершенно отупел.
Только сейчас Андрей понял, почему с ним никто не захотел знакомиться, когда он впервые появился здесь. Сейчас необходимость о чём-либо говорить с соседями обременяла бы его до крайности. Впрочем, он постоянно ловил на себе очень тёплые и немного сочувственные взгляды. Эти взгляды давали ему достаточную моральную поддержку. Он чувствовал, что живёт среди своих, а слова всё равно ничего не добавили бы к этому ощущению.
Дмитрия он не видел уже, казалось, целую вечность. Отца Августина видел иногда во время богослужения. Батюшка чуть заметно ему улыбался, но ни разу не сказал ни слова. Неделя тащилась за неделей. А, может быть, месяц за месяцем. Да, кажется, два месяца уже прошло. Или три. В своём унылом отупении он совершенно потерял счёт времени.
Однажды, вернувшись к себе после богослужения, он обнаружил на тумбочке книгу и записку. На листе бумаги каллиграфическим почерком, который весь состоял из заострений, были написаны по-русски всего два слова: «Держись, Андрюшенька». Он понял, что это отец Августин решил его поддержать. Андрей присел на кровать и почувствовал, что душа наполняется тихой радостью. Казалось бы, что такое эта записка? Андрей и так не сомневался, что батюшка не забыл о нём. Но что-то было очень радостное для него в этих словах. Он впервые увидел почерк отца Августина. Русский почерк французского священника.
Андрей бережно взял в руки книгу, которую послал отец Августин. Житие преподобного Иоанна Дамаскина. Впервые за всё время своего послушничества он начал читать, сев за стол посреди комнаты.
Преподобный Иоанн жил в VIII веке. Он был визирем в Дамаске. По-нашему – премьер-министр. Прославился он своими великими богословскими трудами, ему был дан от Бога великий дар слова. А потом визирь решил уйти в пустынный монастырь. Так вот игумен первым делом строжайше запретил ему писать на бумаге хотя бы слово и работу дал в самый раз подходящую для визиря и богослова – чистить сортиры. Монастырские отхожие места той поры ни мало не напоминали изящные ватерклозеты, которые чистил теперь Сиверцев. Иоанну приходилось в буквальном смысле голыми руками выносить нечистоты. И великий человек безропотно принялся выполнять самую низкую и грязную работу в монастыре. Позднее, конечно, пришло для преподобного Иоанна время сказать своё слово в богословии. И слово это было исполнено подлинного смирения, которое составляет самую суть христианства. Визирь богословствовал бы иначе. Вряд ли человек, привыкший повелевать огромным множеством людей, да ещё на Востоке с его традициями раболепства перед повелителями, смог бы уберечь свою душу от яда гордыни. Игумен указал бывшему визирю путь к духовному совершенству.
Сиверцев вспомнил слова отца Августина: «Поменьше богословствуй, чадо. Самая сильная богословская мысль, которая тебя посетила – намерение чистить сортиры». Теперь Андрей понял, что батюшка тогда вовсе не иронизировал, а, напротив, предостерегал от соблазнов суемудрия, которые частенько подстерегают новоначальных христиан. Сейчас, когда невыносимое внутреннее напряжение схлынуло с его души, он с улыбкой подумал: «Если Августин поставил меня чистить сортиры, значит в богословы готовит». Конечно, Сиверцев понимал, что ему не суждено быть кабинетным мыслителем. Ему назначен Богом путь меча. Но ведь каждый тамплиер – немного богослов, а иначе какой же он тамплиер?
«Всё будет. Всё ещё будет», – радостно подумал Сиверцев. Слёзы облегчения текли по его щекам. Среди послушников Ордена этого можно было не стесняться. Андрею вдруг очень захотелось в храм на богослужение, чтобы вознести хвалу Господу. Он был счастлив, что внутреннее отторжение от церковной службы не навсегда сковало его душу.



