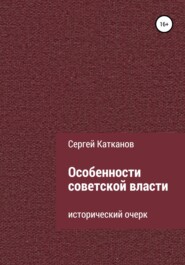 Полная версия
Полная версияОсобенности советской власти
Вот я и решил спокойно, без гнева и пристрастия, вспомнить жизнь в СССР. Про времена Сталина и Хрущева мне известно только из книг, а вот брежневская эпоха прошла через мою жизнь. Книги пересказывать не стану, пусть эти заметки будут чисто свидетельскими показаниями о жизни в брежневском СССР. Чёрт, как известно, сидит в деталях, вот я и хочу вспомнить детали, бытовые мелочи, из которых тогда состояла наша жизнь.
В школе я учился с 1970 по 1980 год, вуз закончил в 1985 году. В младших классах я ещё не очень понимал ту жизнь, которая меня окружала, а с 1985 года ортодоксальный социализм закончился, горбачевская перестройка – отдельная тема. Так что мои воспоминания будут касаться в основном 1975-85 годов. Это брежневская эпоха, к ней примыкают краткие правления Андропова и Черненко, которые по сути ни чем от неё не отличаются.
Еда
Классическая шутка той поры: « – Правду ли говорят, что у вас с мясом плохо? – Врут. У нас с мясом хорошо. У нас без мяса плохо». Помню, как пьяный мужик орал на весь автобус: «К коммунизму идём семимильными шагами, а мяса нет!» Или вот анекдот ещё был про неумирающего Вовочку, которого учительница спросила о том, каких Ильичей он может назвать. Первым вспомнив дедушку Ленина, про второго, то есть Леонида Ильича Брежнева, Вовочка сказал: «Мяса нет, масла нет, на хрен нужен этот дед».
Если хотите узнать эпоху, узнайте, какие анекдоты тогда рассказывали. Анекдоты ни когда не врут. Итак, мяса при Брежневе в свободной продаже в магазинах не было. Не помню даже, сколько оно стоило, это была неактуальная для меня информация, ведь мне ни когда не приходилось покупать свежее мясо. Ну, может быть, его где-то выбрасывали, но оно мгновенно исчезало. Кстати, «выбрасывать» – классическое словечко той поры. Не подумайте, что это на помойку что-то выбрасывали. Это выбрасывали на прилавок то, чего в свободной продаже не было. По этому поводу была такая шутка: « – Что будет, если что-то будет? – Сначала будет очередь, а потом ни чего не будет».
Сейчас летом, стоит только выйти за пределы городской застройки в зелёную зону, как отовсюду тянет запахом шашлыков, которые жарят совсем не богатые люди. Шашлыки стали нашей национальной забавой, ведь мяса в любом магазине завались, какого хочешь. Вы не представляете, насколько невозможно это было в СССР. Я впервые попробовал жареное мясо, когда студентами в ресторане стипендию пропивали, а до этого и столового ножа ни когда в руках не держал. Что им резать-то было?
И колбасы тоже не было. Иногда её «выбрасывали», но чтобы уловить сей счастливый момент, надо было неделями дежурить в магазине, а люди ведь работали. Но надо уточнить: колбаса ни когда не лежала на прилавках в провинции, например, в нашей Вологде, а в Москве можно было купить вареную колбасу свободно, в любом магазине. Копченая колбаса и в Москве свободно не лежала, говорят, в каких-то магазинах она была, но места надо было знать, а мы, приезжие, мест, конечно, не знали, так что копченую колбасу я впервые попробовал уже после крушения СССР, и только благодаря этому крушению.
Была такая шутка: «Отгадайте загадку: длинный, зеленый, колбасой пахнет, что это? Поезд «Москва-Вологда»». Кроме шуток, многие вологжане специально ездили в Москву за колбасой. Мне было известно два сорта вареной колбасы: «по два-двадцать» и «по два-девяносто». Так их называли, а как они назывались на самом деле, не помню.
Что касается всяких копченостей типа «шейки» или «корейки», то мы и слов таких не слышали. И про ветчину знали в основном из книжек. Как-то в фильме про Штирлица я услышал слово «салями». Из контекста было понятно, что это еда, но какая именно еда, я ни как не мог сообразить. Лишь за пределами советской власти я узнал, что «салями» – это оказывается колбаса. Она теперь всегда в магазине лежит.
Сейчас в любой магазин придешь – лежит несколько десятков сортов колбасы: и вареной, и копченой, и шейка, и корейка, и ветчина, и чего только душе угодно. Как-то услышал: «Толку-то, если ни на что денег нет». Не смешите меня. Ваш покорный слуга ни когда много не зарабатывал, но уж на колбасу-то всегда хватало.
Тут есть ещё один момент, который выражался в шутке того времени: «В магазинах ни чего нет, но у всех всё есть». Ну не у всех, конечно, и не всё, но содержимое наших холодильников действительно выглядело лучше, чем содержимое магазинных прилавков. Отчасти это было благодаря УРСам – управлениям рабочего снабжения. Как жила в те годы интеллигенция не знаю, потому что вырос в семье рабочих, а работягам время от времени давали на работе пайки (за деньги, конечно), и было в этих пайках то, чего не было на прилавке. УРСы были разные, и содержание пайков сильно отличалось. Отцу, например, давали на заводе сливочное масло, которого ни когда не было в свободной продаже, но в нашем холодильнике оно было всегда. Ещё давали суповые наборы – кости с некоторым количеством мяса на них. Так что в нашем холодильнике всегда стояла кастрюля супа. Когда я женился и начал жить своим хозяйством, ещё лет десять супа не хотел. И в столовой его ни когда не брал, и дома мы с женой ни когда не варили суп. В родительском доме на полжизни супом наелся.
Больше отцу на заводе не давали ни чего, ни каких деликатесов или лакомств. Говорят, на других заводах продовольственные пайки были побогаче, но достоверных сведений об этом не имею. Впрочем, до этого, когда отец работал механиком на речном сухогрузе, снабжение их судна продуктами осуществлялось с так называемой «плавлавки» – небольшого теплохода-магазина. Вот на плавлавке была и тушенка, и сгущенка. Тушенку я тогда ещё не ценил, а вот от сгущенки млел.
Когда отец сошёл на берег, плавлавка оказалась для него закрыта, там могли отовариваться только экипажи судов, а не те, кто эти суда ремонтировал. И вдруг отец узнал, что капитаном на одной из плавлавок стал его бывший сослуживец. Отец пришёл к нему и спросил: «Тушёнки не продашь?». Тот ответил: «А ты мне что дашь?» Отец ему спокойно сказал: «В морду могу дать». Не договорились, одним словом.
Суть в том, что тут не работал принцип «по дружбе», тут работал принцип «блата». Капитан плавлавки мог продать тушенку тому, кто в свою очередь мог снабдить его каким-нибудь другим дефицитом, а с моего отца, заводского слесаря, какая ему была корысть? У нашей семьи ни когда не было ни какого блата, так что многие бы, наверное, заплакали, заглянув в наш холодильник.
Когда недавно при мне стали расхваливать советскую сгущенку, я сказал: «Она и правда была очень вкусной, но имела один недостаток – её не было». В самом сладком сне не могло присниться, что можно прийти в магазин и просто так купить сгущенку. Конечно, дома у капитана плавлавки сгущенка была всегда, а в обычную торговлю не факт, что её вообще когда-нибудь выбрасывали. Но продавцы обычных магазинов всегда были с колбасой, то есть они были «нужными людьми», так что и без сгущенки, полагаю, тоже не оставались. Дети, которые выросли в семьях всех этих блатников, имеют о социализме совсем не то представление, которое имеют дети рабочих. Хотя вся эта байда с октябрьской революцией, кажется, именно ради рабочих и была затеяна. Но вот хрен вам.
Сейчас я часто смотрю на полки продуктовых магазинов глазами мальчишки брежневских поры, и мне кажется, что я попал в сказку. Если бы кому-нибудь из нас показать тогда нынешний магазин, мы бы, наверное, решили, что это и есть коммунизм. Хотя ни какой это не коммунизм, а просто обычная жизнь, когда есть только один дефицит – деньги. Но ведь то, что мы сегодня видим на полках, в основном доступно даже людям с маленькими зарплатами, просто не всё сразу и не в любом количестве. А что было доступно нам, хоть ты сколько заработай?
Я и доныне не перестал удивляться товарному изобилию. Смотрю, в магазине печенье ста сортов. В наше время печенье тоже свободно лежало, но только плохое, дешевое. А вот сухое печенье было страшным дефицитом. Это что-то вроде галет. Сейчас я такое и есть не стал бы, а тогда оно казалось деликатесом. Пирожные – десятки наименований. Пирожные у нас были, но только два сорта: корзинка с безе и плоское такое, песочное, с сахарной глазурью. Больше ни каких не было. Торты? Тоже пара-тройка наименований, ни какого разнообразия. Помню «Ландыш», «Подарочный», «Паутинка», впрочем, последняя была дефицитом. А где-то во второй половине 70-х произошло ухудшение продовольственной ситуации, и торты исчезли с прилавков. Остался только один торт – бисквитные лепешки, промазанные вареньем, а сверху небрежным росчерком – четыре пересекающихся линии. Этот торт в народе прозвали «сижу за решеткой», да и за этой липкой пакостью часами стояли в очередях.
Какие фрукты мы тогда ели? Яблоки, которые я ни когда не любил. Груши любил, но они были у нас редко. Апельсины и мандарины были фруктами в основном новогодними, в остальное время года я их в нашем доме не помню. Про персики и абрикосы я знал тогда только из книг, персика от абрикоса отличить не смог бы. Про киви и манго не слышал вообще. Бананы если и были, то только в Москве, в Вологде их ни когда не было ни за какие деньги. И кокосов ни когда не было, и ни каких продуктов из кокосов тоже. Про ананасы вообще молчу. Я как-то узнал, что ананас – первый в мире фрукт по вкусовым качествам и мечтал его попробовать, но даже не знал, как он выглядит. О существовании консервированных ананасов мы даже не догадывались.
Ещё были арбузы, которые я обожал, но с арбузами всё было не просто. Они появлялись где-то в начале августа, но стоили безумно дорого – по рублю за килограмм, а то и дороже. Мне на день рождения покупали арбуз, для нашей семьи это была существенная трата. Хотя государственная цена арбуза была 30-40 копеек за килограмм, но купить арбуз в обычном магазине было практически невозможно, их выбрасывали не чаще, чем колбасу. А вот на колхозном рынке арбузы всегда лежали свободно. По рублю.
Тут надо сказать, чем был тогда для нас этот колхозный рынок. Помню на излете социализма, когда только и разговоров было, что про рыночную экономику, один депутат горсовета задал председателю горисполкома вопрос на засыпку: «Что такое рынок?» Тот замялся, явно не зная что ответить, и начал мямлить: «Ну это, конечно, не тот колхозный рынок, который тут у нас неподалёку…» А на самом деле тот, именно тот. Колхозный рынок был удивительным островком рыночной экономики посреди социализма. Рынок это когда спрос рождает предложение, а цена товара ограничивается только платежеспособностью спроса. На рынке товар продают за ту предельную цену, за которую его ещё готовы купить. В точности так и было на нашем колхозном рынке.
По рублю арбузы ещё брали, хотя это и было дорого. Если бы они расходились медленно, цену бы снизили, но и по рублю торговцы успевали распродать завезенную партию, так что снижать цену у них не было ни какого резона. А в итоге мои родители имели возможность купить арбуз сынишке хотя бы на день рождения, иначе я бы и вкуса арбуза не знал. Установить низкие цены совсем не трудно, но тогда товар просто исчезнет с рынка. Государственная цена на арбузы была низкой, а в итоге арбузов в государственных магазинах было не купить.
Сейчас каждый день хожу мимо ларька с арбузами и не устаю удивляться, как дешево они теперь стоят. Килограмм примерно как билет на автобус. Это всё равно, как если бы при Брежневе килограмм арбуза стоил 5 копеек. А почему? Да потому что в условиях рыночной экономики спрос рождает предложение. Если есть спрос на арбузы, их будут привозить до тех пор и в тех количествах, пока спрос не начнёт падать. А чем больше предложение, тем ниже цена. Вот почему арбузы сейчас такие дешевые. Советской власти было просто лениво завести в Вологду побольше арбузов из Астрахани, поэтому они и были такими дорогими. Это же азы экономики, но коммунистам было плевать и на азы, и на буки, и на веди, поэтому они и создали для нас жизнь воистину идиотскую.
Зарплата
Надо ещё объяснить, какие зарплаты были в брежневском СССР, чтобы стало понятно, что такое «рубль за килограмм». Минимальная зарплата была 80 рублей, столько получали дворники, уборщицы, сторожа. Моя мама, работая в швейной мастерской, получала 100 рублей. Отец, работая слесарем, получал где-то 160 рублей. Зарплата инженера – 120 рублей, ну, может быть, ещё какие-нибудь премии накручивали сверху. Ставка учителя – 100 рублей. Да за классное руководство 10 рублей, да за проверку тетрадей 5 рублей, за кабинет 5 рублей, да нагрузка побольще, чем на ставку, в итоге учитель мог получать где-то рублей 150. Кстати, брать больше полуторых ставок было запрещено.
Зарплата 200 рублей считалась очень хорошей, 300 рублей – замечательной, правда не знаю, кто столько получал. Знаю только, что преподававший в вузе кандидат наук, если занимал должность доцента, получал 320, а доктор наук, профессор – 500 рублей. Совершенно фантастические деньги. В итоге, желающих защитить диссертацию было очень много, и защитить её было очень трудно. Проблема была не в том, чтобы диссертация имела научную ценность, ни тогда, ни сейчас большинство диссертаций ни какой научной ценности не имеют. Но процесс защиты был обставлен великим множеством мучительных бюрократических препон. Об этом мне рассказывал один преподававший в вузе кандидат наук. Когда я спросил у него, не собирается ли он защищать докторскую, он сказал: «В наше время защитить докторскую – почти подвиг». Вот за этот подвиг, видимо, и платили фантастическую зарплату. Хотя не раз встречал докторов наук, которые были откровенно глупыми людьми. Но умение преодолевать бюрократические препоны – особый талант, и этим талантом они бесспорно обладали.
Ещё строители, говорят, много зарабатывали, геологи, лесоустроители там всякие. Кто-то отправлялся на север «за длинным рублем». И ещё один удивительный факт. Студенты в стройотрядах, порою, месяц вкалывали, как проклятые, на строительстве какого-нибудь коровника, а потом получали по тысяче рублей. Это были, по нашим меркам, уже не просто фантастические, а совершенно безумные деньги.
Этот факт – потрясающее разоблачение социализма. Ведь кадровые рабочие, в отличие от студентов – профессионалы, за выполнение тех же работ получали не больше 200 рублей. Студенты, конечно, вкалывали с рассвета до заката и без выходных, но получали они больше рабочих не в полтора раза, а раз в 5. Почему? Да потому что любой работяга своим трудом кормил огромную бюрократическую надстройку: один работает – пятеро руководят. А студенты получали все заработанные ими деньги, не имея необходимости кормить дармоедов. Ни один председатель колхоза не был настолько студентолюбив, чтобы переплачивать этой неквалифицированной рабочей силе, работа, выполняемая студентами, обходилась ему не дороже, чем если бы работали свои. А свои прекрасно знали, что сколько не работай, больше пары сотен не получишь, так что работали очень лениво и даже этим гордились. Бытовало без счету шуток типа этой: «Работа не член, сто лет простоит». Производительность труда в СССР была очень низкой, просто не было смысла вкалывать.
Грузины
Были в СССР и свои богатые. Ни про каких «цеховиков» я в то время и слыхом не слыхивал, да и мало кто про них знал, так что роль богачей в общественном сознании играли грузины. Те самые грузины, которые торговали на колхозном рынке, то есть жили фактически в условиях рыночной экономики. В основном это были не производители продовольствия, а перекупщики. Не поручусь за то, что это были именно грузины, для меня и до сих пор все кавказцы на одно лицо. Но то, что это были «лица кавказской национальности» – могу поручиться. А вот анекдоты рассказывали именно про грузин. Приведу несколько для примера.
Молодой грузин поступил в МГУ, родители прислали ему автомобиль. Сын им пишет: «Мне неудобно ездить на личном автомобиле, здесь все на автобусах ездят». А родители ему отвечают: «Сынок, мы тебя поняли, копим деньги на автобус».
На горной дороге грузин разбил свою «Волгу», сидит и плачет: «Я целый день с утра до вечера работал, чтобы эту машину купить, и вот за минуту разбил». Рядом с ним русский плачет у разбитого «Жигуленка»: «А я всю жизнь работал, чтобы эту машину купить». Грузин посмотрел на него с недоумением: «Зачем такую дорогую покупал?».
Грузинский мальчик закончил школу, родители ему говорят: «Если поступишь в институт, купим тебе черную «Волгу». Если поступишь в техникум, купим тебе белую «Волгу». А если ни куда не поступишь, купим тебе «Жигули» и езди на них, как дурак».
Странно, не правда ли? Мы смеялись над тем, что грузины богатые, а мы – бедные. Анекдоты про то, какие грузины богатые, пользовались большой популярностью. Ещё вспомнил: «Приходит грузин в ресторан и бросает рюкзак на стол. Его просят убрать рюкзак со стола, а он говорит: «Это не рюкзак, это кошелек»». Русский нищий рассказывал это русскому нищему, и оба смеялись. И грузины действительно смотрели на нас, как раса господ на быдло. Они ходили по улицам северных городов надменные и высокомерные, они вели себя нагло, они думали, что им всё можно, раз уж у них рюкзаки вместо кошельков.
В конечном итоге их начали бить. И это вызывало чувство глубокого удовлетворения. «Северная чернь», как остроумно называли у нас кавказцев, начала огребать по полной. Вот откуда взялся этот страшный «русский национализм», эта северная нелюбовь к кавказцам.
Почему же именно грузины были в СССР богаты? Почему не казаки с Дона и Кубани, где и росло всё то, чем торговали на нашем колхозном рынке? Неужели грузины были более разворотливыми, талантливыми коммерсантами? Нет, конечно. Просто советская власть сознательно откармливала окраины, искусственно создавая такие экономические условия, благодаря которым национальные меньшинства процветали. А грузины, похоже, думали, что они процветали, потому что они самые лучшие, самые умные и, наконец, самые красивые. Они не начали любить русских за то, что русские подарили им прекрасную жизнь, во всяком случае, гораздо лучшую, чем та, которой жили сами русские. Это у них там были шашлыки, а мы варили супы из костей. Но вместо благодарности грузины презирали русских. Из всех республик СССР антирусские настроения были максимально сильны в Прибалтике и Грузии. И вот мы разбежались по разным странам, и настал момент истины. Если в СССР грузины жили раз в 5 лучше русских, то теперь они живут раза в 2 хуже нас. В условиях реального рынка они оказались не хрен какими коммерсантами.
Автомобили
Раз уж в связи с грузинами мы вспомнили про автомобили, то за раз скажем и о них несколько слов. Автомобиль в СССР был не средством передвижения, а именно роскошью. Ни про какие иномарки мы тогда слыхом не слыхивали, наши улицы тихо рассекали немногочисленные изделия отечественного автопрома. Основных марок было три: «Волга», самая шикарная, стоившая 9 тыс. руб, «Жигули» первых моделей, стоившие 5 тыс. руб., и «Запорожец» за 3 тысячи. (Был ещё «Москвич», но тогдашнюю цену на него я не знаю). Простому рабочему, учителю, врачу покупка автомобиля не была доступна ни при каких обстоятельствах. Как вы думаете, получая 150 рублей в месяц, за какое время можно накопить 5 тысяч? Ни за какое. Тех зарплат и так едва на жизнь хватало. А в кредит тогда автомобили не продавали.
Кто же тогда покупал автомобили? Это мог позволить себе или профессор с зарплатой 500 рублей, или человек, который несколько лет жестоко калымил на севере, или торгаш. Вот эти-то в условиях развитого социализма катались, как сыр в масле. Если ты сел верхом на дефицит, то твои материальные проблемы остались в прошлом. Хотя по нынешним меркам «сыр с маслом» советских торгашей смотрится довольно убого, но на фоне всеобщей советской нищеты барыги выглядели весьма презентабельно.
Были ещё фанатики приобретения автомобиля, которые лет 20 во всем себе отказывали, только что не голодали, но исхитрялись стать хозяевами вожделенного «Жигуля». Как в том анекдоте про грузина русский говорит: «А я всю жизнь копил, чтобы эту машину купить».
Кстати, как вы думаете, если новая «Волга» стоила 9 тысяч, то сколько стоила бэушная? Если не знаете, ни за что не догадаетесь. Около 20 тысяч. Дело в том, что для покупки автомобиля надо было много лет стоять в очередь. Но наглый грузин, заработавший на рынке рюкзак денег, не мог ждать так долго, он покупал «Волгу» без очереди, с рук, а это стоило уже 20 тысяч. Для простого советского человека эта сумма звучала примерно, как миллион долларов для современной пенсионерки.
Насколько мне известно, над изделиями советского автопрома потешался весь мир, это были не автомобили, а «ведра с болтами». Почему так? Ведь ещё во вторую мировую СССР делал очень хорошие танки, над которыми ни кому не было смешно, а потом и спутник в космос запустили, и Гагарина туда же отправили, чего до нас не могли сделать самые богатые и развитые страны. Значит, СССР был круче всех? Вот в эту ловушку и попадается сейчас молодежь, восхваляющая СССР, но совершенно не знающая, как тогда люди жили.
Правда в том, что советская власть, «власть трудящихся», «власть рабочих и крестьян» на деле презирала простого человека с таким неподражаемым цинизмом, до какого ни какие буржуи ни когда не доходили. Когда власть делала что-то для самосохранения или для собственного престижа, всё получалось неплохо, когда власть что-то делала для людей, всё получалось отвратительно. Поэтому танки у нас были хорошие, а автомобили плохие. В производство танков власть вкладывалась очень серьёзно, потому что где бы она сама была, если бы не эти танки. А на автомобилях ведь рядовые граждане будут ездить, так хрен ли для них стараться? Достаточно запретить ввоз в страну иномарок и тогда даже эти «ведра с болтами» советские граждане будут считать настоящими автомобилями, потому что сравнивать будет не с чем. А если и этих «ведер с болтами» выпускать мало, чтобы не хватало даже на относительно состоятельных советских граждан, тогда приобретение убогого «Жигуленка» превратится для советского человека в настоящий праздник. Работать над улучшением качества автомобиля не было ни какого смысла, потому что не было конкуренции.
А вот в сознание ракеты советская власть забивала все мыслимые и немыслимые ресурсы, ввергая своих людей в окончательную нищету, ради одной единственной фразы: «Первым человеком, который полетел в космос, был коммунист». С нас же последние штаны снимали ради того, чтобы Гагарин сказал: «Поехали».
Сейчас смотрю в окно на бесконечные ряды очень плотно припаркованных иномарок и думаю: «До чего же наши люди обнищали после крушения СССР».
Ещё про еду
Поневоле отвлекся, потому что одно цепляется за другое и рассказывать по порядку не получается. Но вернемся к продовольственной ситуации в СССР.
Какие продукты были всегда, что гарантировала нам советская власть? С хлебом не было проблем. Буханка черного, ржаного стоила 18 копеек. Белый пшеничный батон от 13 до 23 копеек. Батон за 13 копеек носил невзыскательное название «Простой», так что была даже шутка: «Простой, как батон за 13 копеек». Хлеб был очень дешев, от нас и не скрывали, что продают его значительно ниже себестоимости. Говорили, что производство буханки черного хлеба обходится примерно в 1 рубль, а продают его за 18 копеек.
В этом я, пожалуй, понимаю советскую власть. Поколение моих родителей прошло через настоящий голод, когда слова «кусок хлеба» не были метафорой, эти слова означали высшую ценность, от которой зависела жизнь. И если власть решила, что пусть хоть хлеба у людей будет досыта, то это, наверное, правильно.
Но вот ведь парадокс: рыночной экономики у нас не было, а некоторые рыночные механизмы всё равно действовали. Цены на комбикорма для скотины ни кто не дотировал, а в итоге хлеб был гораздо дешевле комбикормов, и в личных хозяйствах скотину кормили хлебом. Все дружно называли это кощунством, но скотину продолжали кормить высококачественным хлебом, потому что ни один дурак не стал бы покупать для своей скотины комбикорма, если хлеб дешевле.
Ещё один хлебный парадокс: в деревенских магазинах хлебом, как правило, не торговали, там обычно были свои пекарни, откуда везти хлеб в магазин не считали нужным, его на пекарне и продавали, причем лишь в течение одного часа в день. Не успеть за этот час зайти на пекарню, означало остаться без хлеба. Причем хлеб в деревнях пекли только буханками, пшеничными или ржаными, а в итоге деревенские дети считали батоны городским деликатесом. Когда я уже работал на селе, а на выходные ездил в город, иногда привозил своему коллеге пару батонов, чтобы его детишки полакомились.
В наше время мне иногда доводилось бывать в сельских магазинах. Там всегда торгуют хлебом. И ни кого это не удивляет. А меня до сих пор удивляет. Оказывается, и раньше вовсе не обязательно было издеваться над людьми.
Молоко в наших магазинах было всегда. Правда, деревенские смеялись над нашим городским молоком: подкрашенную водичку пьёте. Хотя я, например, не мог пить парного деревенского молока, для меня оно было слишком жирным. Моим любимым блюдом в те годы была жареная картошка со стаканом холодного молока. Без молока я тогда картошку и есть не стал бы. Впрочем, именно работа в деревне приучила меня есть картошку без молока, ведь в деревенском магазине молоко, само собой, не продавалось.

