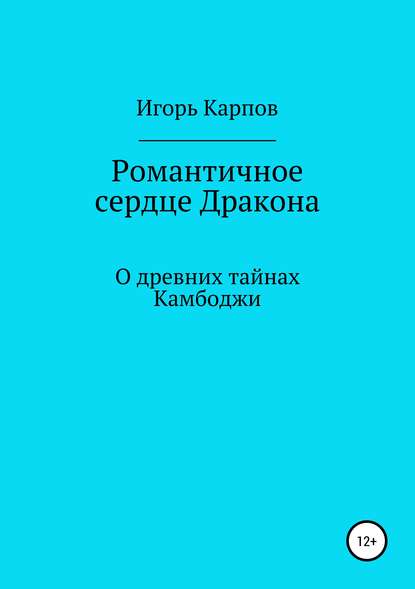 Полная версия
Полная версияРомантичное сердце Дракона. О древних тайнах Камбоджи
Пожалуй, единственным исключением из этого правила змеебоязни был тронный головной убор фараонов, состоявший из платка в форме раздувшегося капюшона кобры с надетой поверх диадемой в виде свернувшейся кольцом змеи или продолговатой короны, где центральным фрагментом был урей в виде головы той же кобры, которая символизировала собой как бы «третий глаз» – всевидящее око фараона. Но эта змеиная атрибутика служила скорее для устрашения подданных, мол, не подходи близко, а то ужалю, либо была призвана вводить в заблуждение реальных и мифических ползучих гадов – не видите что ли, «я же свой», «рождённый ползать».
В Древней Индии, в Китае, равно как и в Камбодже, впитавшей их культуру, нельзя сказать, чтобы змей сильно любили, но, по-крайней мере, их уважали, старались бить, но не сильно, и всякий раз склоняли к сотрудничеству. Достаточно вспомнить змея Шешу. Будучи царём нагов (полубожественных мифических созданий со змеиными телами и человеческим головами, которые играли в Древней Индии ту же роль, что и гномы в Европе или чудь на Руси – они были великими чародеями и охраняли несметные сокровища недр), этот Шеша служил ложем для бога Вишну, когда тот отдыхал между актами творения Вселенной. Иногда Шеша разверзал пасть (а может просто зевал, глядя на почившего Вишну) и изрыгал оттуда пламя, которое уничтожало существующую в данный момент Вселенную. Но бог, как видим, был на него не в обиде – он пробуждался, из его пупка вырастал лотос, из лотоса вылезал творец Мироздания Брахма, который делал новую Вселенную, при этом сам Вишну ложа своего не менял, а снова засыпал до следующего огненного дыха Шеши. Можно припомнить гигантского змея Васуки, то ли брата Шеши, то ли так по-иному звали самого Шешу, который послужил мутовкой при пахтании мирового океана, когда боги и асуры (индийские демоны) вместе добывали амриту – напиток бессмертия (кстати, из пены в результате такого пахтания, или из взбитых сливок, как раз и вышли красавицы-апсары, а, следовательно, и сингапурские стюардессы, о которых мы уже упоминали в самом начале). И тот, и другой – отличные кандидаты на то, чтобы увековечить свой образ в созвездии Дракона.
Возможно, отношения древних египтян со змеями не складывались ещё и потому, что в Древнем Египте не было дудочек, которые, в свою очередь, были и есть по сию пору у индийских факиров. Играя на них, те привораживают змей (в основном, кобр) и делают их послушными своей воле. Или искусно это симулируют, однако это уже не суть важно. В Древнем Египте были барабаны, были арфы, были систры (трещотки), даже метровой длины флейты были, а вот простых дудочек не было – может в этом всё и дело?..
Третью аналогию Хэнкок обнаружил в самом слове «Ангкор». Он сопоставил его с древнеегипетским «Анх Гор», что значит «Бог Гор жив». Гор был сыном Осириса, продолжателем его цивилизаторского дела. В Древнем Египте, с самых первых его времён, как утверждает Хэнкок, существовала тайное общество посвящённых в божественное знание, так называемые «Последователи Гора». Возможно, что даже они, а не мифический Осирис, придя откуда-то с Запада (из затонувшей Атлантиды, как тут же многим приходит на ум), причастны к созданию самой потрясающей в письменной истории человечества культуры в долине Нила, что пирамиды строились согласно их секретному плану, а человечество развивалось по прописанному ими сценарию (и не исключено, развивается до сих пор в рамках уже глобальной земной цивилизации).
Каким-то образом властелин Камбоджи Джаяварман II в 802 году н.э. узнал о тайных замыслах этого канувшего в небытие общества, но возможно и другое – оно само оказалось на удивление могущественно и живуче и его здравствующие тогда представители надоумили Джаявамана II начать многовековое и самое грандиозное по тем временам строительство с целью воспроизвести на земной поверхности созвездие Дракона. Для чего – остаётся неразрешимой пока загадкой. Хотя учёные и тут стараются держать необузданную фантазию некоторых исследователей в узде. Они ссылаются на храмовые надписи, в которых недвусмысленно говорится о том, что каждый храм был построен во ознаменование какой-то значимой даты в жизни кхмерской империи. Но Хэнкока и иже с ним это не останавливает: они считают, что в данном случае одно другому не мешает – можно и созвездие Дракона изображать и памятные даты увековечивать.
Также учёные пока никак не комментируют столь вольное отождествление кхмерского названия «Ангкор», идущего от санскритского «нагара», что значит «столица» и древнеегипетского «Анх Гор» – «Бог Гор жив», к санскриту и кхмерскому языку не имеющего никакого отношения. То ли они не считают нужным публично откликаться на такую, скажем «антинаучную бредятину», то ли пропускают упоминания об этом мимо ушей, мысленно крутят пальцем у виска и посмеиваются «в тряпочку», то ли свойственное академическим кругам высокомерие не даёт им возможности признать простую и вопиющую схожесть двух понятий, которую они сами так обидно проглядели, занимаясь куда более сложными и непонятными для простых смертных вещами. Такое на их памяти уже имело место, когда не они, а «посторонний дилетант» Роберт Бьювел нашёл соответствие между Поясом Ориона на небе и тремя египетскими пирамидами на земле.
Так какая же великая тайна, по мнению Хэнкока, повязала на тысячелетия «Последователей Гора» и тех, к кому они являлись и говорили: «Строй!»? Об одной её половине мы уже упоминали – это воспроизведение на земной поверхности участков звёздного неба в день весеннего равноденствия 21 марта 10 500 года до н.э. (приблизительно). Вторая же её половина связана с эффектом прецессии земной оси. Эту идею Грэм Хэнкок начал планомерно проталкивать в жизнь ещё с выходом своей, пожалуй, самой популярной книги «Следы богов».
Воображаемая ось вращения Земли на самом деле не привязана к одному и тому же месту, она подвержена колебаниям из стороны в сторону, подобно оси вращающегося не очень быстро волчка. Возле полюсов она очерчивает в пространстве фигуру, близкую к конусу. Это и есть явление прецессии земной оси. Полный оборот по окружности, описываемой обеими полюсами (так называемый прецессионный цикл) происходит за 25 776 лет. Ну и что это нам даёт?
Прежде всего это даёт нам картину звёздного неба, меняющуюся картину. Звёзды, а следовательно, и созвездия не жёстко приколочены к ночному небу серебристыми гвоздиками, они медленно прогуливаются по нему, пока вновь, через 25 776 лет, не окажутся на прежнем месте. Дело в том, что в 10 500 году до н.э., когда Северный полюс мира обозначала звезда Альфа Дракона, само созвездие (воспроизводимое на земле храмовым комплексом Ангкор в Камбодже) находилось в наивысшей точке относительно горизонта, а Орион (чей Пояс символизируют три великие пирамиды в Египте) – в наинизшей. Сейчас картина иная – в наше время ось вращения Земли преодолела почти половину прецессионного круга, теперь Орион находится в наивысшей точке, а Дракон – в наинизшей. Этакие качели или маятник Орион–Дракон…
Опять, и что же?.. А ничего. Пока ничего. Зачем древним, всяким там «Последователям Гора», громоздить такие циклопические памятники, чтобы увековечить прецессию? И почему пирамиды ради этого воздвигли в Египте, а храмы Ангкора в Камбодже? Ведь линия Гиза – Ангкор, проложенная по земной поверхности, не соединяет никаких значимых точек и очагов древних культур!.. Куда логичнее было бы расположить такие памятники на той же широте, что и пирамиды Гизы (практически, это 30о с.ш.). Ведь на ней «засветились», по крайней мере, первые города шумеров в дельте Тигра и Евфрата, хараппская цивилизация в долине Инда и непреходяще загадочный и манящий Тибет с его пирамидообразными пиками и Шамбалой.
Сперва, конечно, напрашивается один дурацкий ответ (от автора). Никакой особенной тайной подоплёки во всём этом нет. Просто во все времена архитекторами самых величественных сооружений и их венценосными заказчиками были люди, малость, так скажем, не в себе. Нет ничего удивительного в том, если и «Последователи Гора» – люди из их числа. Правда, глядя на их творения, как-то рука не поднимается бросить камень в их огород, напротив, даже хочется свести кого-нибудь с ума, чтобы повторилось нечто подобное.
Затем напрашивается ответ поэтический и патетический одновременно (тут уже, считайте, звучат голоса только Хэнкока и Бьювела) – что берущее начало в глубокой древности тайное общество, одной из сфер деятельности которой была астрология, решило воссоздать небо на земле ради обретения смертными вечной жизни. Т.е. дать им своеобразные «ключи от неба», этакий пропуск в мир богов. Судя по всему, одной из целей астрологии (тогдашней, а не нынешней) было привязать человека к определённому участку на звёздном небе под будущее строительство его собственного «небесного дома», где он уже будет жить вечно. Есть основания полагать, что нечто подобное и происходило в пирамидах – гробницами они не служили, а вот некими лабораториями, где жрецы с помощью обрядов и заклинаний готовили умерших фараонов (а может и не только их) к далёкому космическому путешествию в райские Елисейские Поля (в Древнем Египте они назывались Полями Иалу) – вполне вероятно.
Ответ по-умнее (тоже почти всё от дуэта Хэнкок + Бьювел) такой: возможно пирамиды долины Гизы и Ангкор – это напоминание потомкам о времени, когда всё менялось, когда Землю сотрясали страшные катаклизмы, вызванные таянием ледников. Возможно, это попытка запечатлеть образно и в камне этот «эффект небесного метронома» – маятника Орион – Дракон, чтобы донести свои открытия до грядущих поколений, особенно до тех, что будут жить при смене эпох, как мы с вами, и чтобы напомнить о неразрывности «сиамских близнецов человечества» – войны и мира. Ведь Орион-Осирис в Древнем Египте символизировал собой созидание и новое рождение, те же функции в Древней Индии нёс в себе Вишну (оба бога, кстати, были тёмноликими), а вот со змеями, что в Египте, что в Индии, связывали гибельные и разрушительные явления. Но за этими катастрофами всегда следовало рождение чего-то нового и такая цикличность картины звёздного неба, основанная на прецессии, была древним очень по душе – она подкрепляла их маниакальную веру в «жизнь после смерти», либо в реинкарнацию. Когда Дракон был «на коне», т.е. тусовался возле точки звёздного престижа – небесного полюса, а Орион был подавлен и скромно топтался у линии небесного горизонта, на поверхности Земли бушевали геоклиматические бури – мир переживал драматические и резкие метаморфозы – менялся не только облик планеты, но и её флора и фауна, а также разумная жизнь. Сейчас, когда оба созвездия почти поменялись местами и в фаворе теперь Орион (пусть он и не подбирается к небесному полюсу так близко, как это делает хитроумный Дракон), тем не менее мы вправе ждать от этого знамения какого-то недюженного и долгоиграющего прогресса земной цивилизации, раз небесным балом заправляет созидательное олицетворение бога Осириса. Что, в общем-то, и происходит…
Совсем умный ответ и самый трудный, кстати (собственно, от самих учёных), пока никакой не дан…
Конечно, очень заманчиво приписать храмам Ангкора сходство с созвездием Дракона, тем более, что многие из них несут в себе космический смысл. Не исключено, что так оно в конечном счёте и окажется, хотя за последнее время учёные открывают всё новые храмы (их уже почти 170!) и вроде бы чёткие поначалу контуры созвездия Дракона сильно размываются в сонме новых находок. И опять встаёт всё тот же вопрос – зачем нашим предкам прилагать столь титанические усилия, чтобы увековечить прецессию? Неужели нельзя было достичь того же результата методами поскромнее? Хэнкок поспешил объяснить это так, мол, древние делали это для того, чтобы мы, их далёкие потомки, обратили более пристальное внимание на их послание в камне о грядущей эпохе катастроф и успели подготовиться. Ведь более скромными сооружениями мы вряд ли заинтересуемся столь основательно и не станем на протяжении столетий всем миром гадать об их истинном назначении. А имея дело с их впечатляющими по размерам собратьями, мы в конечном итоге придём к тому, чтобы что-то постоянно искать, находить, отвергать и снова находить, пока, наконец, не будет дан правильный ответ. Хотя, как показывает современный уровень развития естествознания, особенно квантовой физики, однозначного ответа на тот или иной вопрос быть не может, существуют лишь вероятности таких ответов и чем точнее мы хотим его получить, тем больше неопределённость в его правильности. Почти по Сократу: «Я знаю то, что ничего не знаю…»
С другой стороны, человек во все века стремился прыгнуть выше своей головы и именно это безумное на первый взгляд стремление является залогом развития земной цивилизации. Исчезнет оно – исчезнет и человечество. Поэтому желание любого правителя, наделённого безграничной властью, оставить по себе и своему времени грандиозное напоминание в виде неподвластного тлению и разграблению сооружения оправдывает его и как властелина, и как человека. Что там гласит египетская пословица: «Всё на свете боится времени, а время боится пирамид»?.. Ведь великие пирамиды долины Гизы строили фараоны одной династии, к одной династии (хотя и более продолжительной) принадлежали короли – зодчие Ангкора. Для своих потрясающих архитектурных деяний они выжали из своих стран всё что можно, довели их до почти полного упадка, так что, если их ближайшие потомки и хотели повторить или превзойти их достижения, им просто не на что было опереться – в их руках не было достаточных финансовых, материальных и людских ресурсов, зачастую они были уже зависимы от других, более сильных владык; всё, что им оставалось делать – это проклинать своих предшественников за непомерную гордыню и расточительство, завидовать им и восхищаться делом их рук…
Думается, всё станет ясным, когда археологи и историки смогут посмотреть на памятники древности глазами специалистов по космологии и квантовой физике, а те глянут на процессы в глубинах Вселенной и в недрах вещества с позиций археологов и историков. Вот тогда и случится, наверное, великое объединение теорий и мы наконец-то осознаем Истину…
С одним непременным условием – если нам это позволит другая Истина!..
P.S. А напоследок, маленькая тайна…
Есть в Ангкоре ещё одно местечко, которое любой романтик назовёт самым лучшим в мире (а прожжённый циник пожалеет, что он сейчас не романтик). Это Та Пром – бывший монастырь, также построенный во времена Джаявармана VII. Тот, кто никогда не был в Ангкоре, не видел его на картинках и фотографиях, но жизни не чает без американской кинозвезды Анжелины Джоли, наверняка запомнил это место по фильму «Лара Крофт – расхитительница гробниц».
В своё время Та Пром был величественным монастырём, эта величественность затем «по наследству» досталась и его развалинам. Любое его описание априори окажется несовершенным. Нарисованный на картине, он будет восприниматься как итог буйной творческой фантазии художника. Даже увиденный воочию, он не становится более осязаемым. И только фотография или видеозапись способны заставить поверить в его реальность – да, такое возможно!..
Сам до сих пор не могу понять – был я там или нет. Вроде бы у меня остались фото, на которых есть я среди причудливых развалин, остались люди, которые подтвердят под присягой, что да – был он там, был!, но воспоминания мои носят какой-то отрывистый характер, нет цельной картины, словно я видел сон и теперь в памяти всплывают одни и те же, причём никак несвязанные между собой его эпизоды. Если мои хождения по Байону, по Ангкор-Вату, вообще по Камбодже я могу воссоздать чуть ли не поминутно, то пребывание в Та Проме – сплошные провалы в памяти. Вот тут я был, а тут – убей бог, не помню… Таково кажущееся воздействие на тебя Та Прома – ты бродишь там, как в тумане, иногда сквозь разорванную его пелену созерцая фантастические развалины, а потом всё снова погружается в туман, до следующего разрыва. Будто какая-то неведомая сила, какой-то добрый джинн живёт здесь и в мгновение ока переносит тебя с одного места на другое, тыкая носом в очередной шедевр этого воистину творческого беспорядка.
Видимо из-за такого сверхъестественного вмешательства (или проще – моего помешательства), я проглядел одну маленькую, но очень интригующую тайну данного места. Тайна действительно маленькая, поскольку представляет собой крошечный фрагмент барельефа в одном, мало чем примечательном, участке разрушенного монастыря. Однако подходить близко к таким барельефам боязно, поскольку они окаймляют зияющие непроглядным мраком пустоты длинных низких галерей. Так и кажется, что в этих пустотах с чуть слышным шорохом и шипением скользят, извиваясь кольцами, огромные тела ужасных и смертельно жалящих змей. Даже если бы я знал об этой тайне, не уверен, что подошёл бы к ней так близко – змей я, разумеется, не боюсь, они мне даже очень нравятся, но на большом расстоянии. А вот мои друзья не испугались, думали они о тайне, а не о змеях, поэтому она им и открылась, когда они к ней подошли. Тайной оказалось изображение животного, которое сейчас уже в природе не встретишь, но в любой иллюстрированной книжке про динозавров его без труда опознаешь. . Это знаменитый стегозавр со своими характерными роговыми пластинами на спине и с острыми длинными шипами на конце. Правда, на барельефе шипов на хвосте не видно, но всё остальное представлено в лучшем виде. Причём изображения других животных – все из этой, а не из прошлой жизни. Исключение составляет, пожалуй, вырезанная чуть выше фигурка малопонятного создания с одним рогом на голове. Учёные считают, что это буйвол (похоже), можно принять его и за носорога, и за мифического единорога. Согласимся с буйволом или носорогом, а стегозавра оставим себе.
Как о нём могли узнать строители Та Прома и не очередные ли это мистические «шутки» загадочного храма?.. Ну, насчёт «шуток» не знаю, это надо увидеть и тогда понимаешь, что это никакие не шутки. А вот насчёт откуда могли узнать – каких-либо вразумительных версий нет, а с десяток более или менее правдоподобных вы и сами насочиняете за десять минут и, наверняка, одна из них будет верной. Мне, например, нравится такая: люди прошлого, в частности строители Ангкора или монахи, были ничуть не менее смышлёными, чем современные палеонтологи, они могли наткнуться на хорошо сохранившийся скелет стегозавра, а затем воссоздать его истинный облик, обтянув скелет кожей, материей или даже обернув листьями пальмы. Знания об этом могли попасть в Камбоджу из Китая или даже из Монголии, где учёные находят сейчас множество останков доисторических животных.
Водились ли стегозавры и другие представители «Парка Юрского Периода» во времена строительства Ангкора или незадолго до этого в джунглях Индокитая?.. Судить не берусь, не имея никаких, сколь-нибудь заслуживающих доверия, сведений на руках, и не будучи поклонником такой точки зрения. Хотя, сама по себе, гипотеза, безусловно, заманчивая и притягательная. Но ведь есть же на Востоке стойкая вера в драконов, очень напоминающих, как не крути, доисторических ящеров!.. Причём в таких драконов, у которых, по большей части, романтичное сердце…
Опубликовано: журнал АЛЬМАНАХ Т.О.П.: тайны, открытия, приключения, №3, 2007

