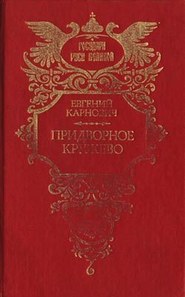 Полная версия
Полная версияНа высоте и на доле: Царевна Софья Алексеевна
– Надо прежде поговорить с патриархом, он без царя начальный человек в Москве. Потребуем от него, чтобы он разослал в украйные города грамоты с приказанием тамошним служилым людям идти к Москве на нашу защиту, – советовали некоторые из стрельцов своим слишком горячившимся товарищам.
На этом совете остановились, и выборные отправились к патриарху, который вышел к ним в Крестовую палату.
– Не смущайтесь, чада мои, прелестными словами, ждите царского указа и самовольно к царям в поход не ходите! – начал увещевать святейший Иоаким.
– Ведай, старче, – закричал ему один из выборных, – что если ты с боярами за одно мыслишь, то мы убьем и тебя, никому пощады не дадим!
Патриарх увидел бесполезность дальнейших увещаний. Со страхом удалился он в свои хоромы, а стрельцы между тем безвыходно толпились в Крестовой палате, все сильнее и сильнее негодуя на патриаршую «дурость».
– Пойдем на бояр! – вопили они в палате.
– Успеем еще, подождем царского указа! – унимали другие.
Наступила ночь. Набат продолжал гудеть. Стрельцы вооружались и укрепляли Кремль. Переводили туда свои семьи, перекапывали улицы, строили надолбы и ожидали нападения служилых людей, бывших при царях в Троицкой лавре. В то же время и там укреплялись против ожидаемого нападения стрельцов: втаскивали на раскаты пушки, расставляли стражу по зубчатым стенам монастыря. Высылали на дорогу разведочные отряды и устраивали в оврагах и лесистых местах засады для наблюдения за движением стрельцов в случае их похода из Москвы. Во всех этих распоряжениях Софья принимала деятельное участие, вверив оборону лавры князю Василию Васильевичу Голицыну с званием ближнего воеводы.
Напрасны, однако, были все эти приготовления. Стрельцы пока не двигались на лавру.
Софья между тем принимала все меры для утишения стрельцов. Она послала в Москву указ о казни Хованских и думного дворянина Голосова* для объяснения со стрельцами.
– Скажи им, – говорила царевна, отпуская в Москву Голосова, – чтобы за Хованских не заступались. Скажи им также, что суд о милости и казни поручен от Бога царям-государям, а им, стрельцам, не только говорить, но и мыслить о том не приходится. Объяви также стрельцам через патриарха, что им опалы не будет, если принесут повинную и пришлют в лавру по двадцати человек лучшей своей братьи от каждого полка.
– Зачем нам идти в поход к государям? – заговорили стрельцы после того, как им был прочитан указ о казни Хованских. – Сами государи наших лиходеев изводят. Вот ведь и князю Ивану Андреевичу отрубили голову за то, что он «облыгал» нас, надворную пехоту, перед государями, а сам мутил нас своими речами. Казнь его праведна.
Быстро переменилось мнение стрельцов об их погибшем, прежде столь любимом начальнике. Принялись теперь стрельцы порицать Хованского и за то, и за другое и, наконец, порешили, что мстить за него боярам не приходится. Стали они также убеждаться и в том, что на них из лавры нападать не желают. Преданные царевне люди внушали стрельцам, чтобы они вполне успокоились. Стрельцы присмирели и стали просить патриарха, чтобы он уговорил государей возвратиться в Москву.
27 сентября выборные отправились в лавру и на пути встречали сильные отряды дворян и служилых людей. Окруженная в укрепленном монастыре и теми и другими, смело и грозно заговорила правительница с прибывшими к ней стрельцами. Теперь она вышла к ним одна, без царевен, лишь с немногими боярами, не возбуждавшими к себе в стрельцах особой ненависти.
– Люди Божии, как вы не побоялись поднять руки на благочестивых царей? Разве забыли вы крестное целование? Посмотрите, до чего довело ваше злодейство: со всех сторон ратные люди ополчились на вас. Вы именуетесь нашими слугами, а где ваша служба, где ваша покорность? Раскайтесь в ваших винах, и милосердные цари помилуют вас; если же не раскаетесь, то все пойдут на вас.
Выборные повалились царевне в ноги, заявляя, что у стрельцов нет злого умысла ни против царей, ни против бояр. Правительница отпустила их всех из лавры, а в Покров привезена была туда челобитная, в которой стрельцы клялись служить верно государям, без измены и шаткости, прежних дел не хвалить и новой смуты не заводить. 5 октября стрельцам, созванным в Успенский собор, было объявлено царское прощение, но правительница ожидала, пока они совсем успокоятся, и только 6 ноября она и все царское семейство вернулись в Москву, а 6 декабря думный дворянин Федор Леонтьевич Шакловитый был назначен начальником Стрелецкого приказа, со званием окольничего. Возвышение его было и неожиданно и чрезвычайно быстро.
Стрелецкие и раскольничьи смуты, подавленные царевною, придавали молодой девушке все более и более самоуверенности и твердости. Все сильнее и сильнее чувствовала она власть, бывшую теперь в ее руках, и, по выражению одного современника, правила государством «творяще, яже хотяй».
По возвращении в Москву из лавры она начала деятельно заниматься государственными делами. При этом главным пособником и постоянным ее руководителем стал князь Василий Васильевич Голицын. В то же время царевне пришел на память разговор с Милославским о том, что ей для государственных дел нужен «оберегатель», и она повелела Голицыну именоваться и писаться «новгородским наместником, царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателем и ближним боярином».
XXV
– Ты, Митька, сбегал бы на Ивановскую колокольню посмотреть на солнце; кажись, сегодня оно ясно взойдет! – говорил строитель Спасского монастыря, что за Иконным рядом, Сильвестр, в мире Семен Медведев, вставши на рассвете и выглянув в окно своей кельи.
– Отчего же не посмотреть? Давно я этого не делал, может быть, что-нибудь и новое увижу, – отвечал на это приказание нечистым русским говором живший при келье строителя мирянин Дмитрий Силин и, схватив проворно картуз, побежал смотреть на солнце.
Вскоре после него вышел из кельи и отец строитель. Осмотрев, все ли в порядке в его богохранимой обители, он вернулся в келью и начал там рыться в бумагах и книгах, а спустя некоторое время вернулся в его келью побывавший на Ивановской колокольне Силин. Он шел по монастырскому дворцу приунылый, понурив голову.
– Ну, что же ты видел? – спросил его торопливо Сильвестр.
Митька молчал.
– Верно, что-нибудь нехорошее, – добавил строитель.
– Так и есть, да только не пугайся, превелебный отец; это, должно быть, только временно, потом будет лучше, – успокаивал Силин.
– Да кто тебе сказал, что я боюсь? Рассказывай, что такое! – и Сильвестр опустился в кресла, готовясь выслушать сообщение Митьки.
– Видел я, – заговорил смело Силин, – что у государей царские венцы на головах, у князя Голицына было два венца, один царский – тот мотался на спине, а другой брачный – тоже мотался, да только на груди, а сам боярин стоял темен и ходил колесом; ты, отец, тоже был темен, как и он, царевна печальна и смутна, а Федор Леонтьевич стоял, повесив голову…** >> ** Подлинные слова Силина.
– Что ты за вздор несешь? Да как же боярин будет вертеться колесом? – перебил насмешливо отец строитель.
– Да вот поди же, вертелся, а как, я показать тебе этого не смогу. Да и мало чего не может быть на земле, а бывает в солнце; ведь у князя не мотается же два венца, а в солнце я их видел, – с уверенностью возразил Силин.
– Верно, ты так же умеешь хорошо смотреть в солнце, как умеешь лечить. Покойный отец Симеон вызвал тебя из Польши, чтобы ты вылечил глаза царевичу Ивану Алексеевичу; ты взялся за это, а что сделал? – с пренебрежением сказал Сильвестр.
– Да кто его вылечит? Разве знал я, живучи в Польше, что он почти слепой, да и лечить-то его не потреба, скоро он умрет, – возразил Митька.
– Болтай-ка побольше, так тебя отлично проучат в приказе Тайных дел. Хвастунишка ты и враль! Ступай, я позову тебя, когда будет нужно.
Митька вышел. Хотя же Сильвестр и говорил с ним не только равнодушно, но и насмешливо, но по уходе его крепко призадумался.
«А ведь, пожалуй, – размышлял он, – Митька и правду сказал. У князя Василия могут быть два венца: царский за спиною, который достать трудно, и брачный на груди, который достать ему легче. Да и колесом в иноскательном смысле он вертеться может, то есть может действовать как колесо в огромной государственной махине… Эх, эх! Что-то будет? Не сочинить же так ловко самому Митьке, глуп он!»
Он стал перечитывать и поправлять с особенною тщательностью те места своих записок, в которых говорилось о царевне Софье.
– «Премудрый Бог, – читал вполголоса Сильвестр, – яко Сый, все в себе объем, и в длани своей концы земные держай, благоволил в промысле своем удивляти людей, да и ненадеющиеся, надежду имевши, возглаголют: яко есть Бог, сотворивший вся и оною твариею промышляяй и яко и древние роды чудодействуя жены мудрыя. К пособию правлению царства благочестивейшего царя и великого князя Петра Алексеевича, в юных его летех воздвиже сестру его, благородную царевну и великую княжну Софью Алексеевну, ей же даде чудный смысл и суждение неусыпным сердца своего оком непрестанно творяще к российскому народу великий труд».
Сильвестр продолжал прочитывать и поправлять свои сказания, когда к нему в келью вошел высокий и статный мужчина, лет около тридцати пяти, щегольски разодетый. Пышный наряд вошедшего мужчины как нельзя более соответствовал его представительной наружности.
– Спасибо тебе, земляк, что не зазнаешься и не забываешь меня, – приветливо сказал монах вошедшему к нему Шакловитому.
– С чего же мне перед тобою, отец Сильвестр, зазнаваться? Перед другими, пожалуй, что и зазнаюсь вскорости, а тебе я слишком много обязан! Пошли мне твои советы на пользу, да и теперь я пришел к тебе посоветоваться! – сказал гость, дружески поцеловавшись с хозяином.
– А что, Федор, думал ли ты, живя со мною в Новоселках, что дойдешь когда-нибудь до такой великой чести в царствующем граде Российского государства? Помнишь, как мы, бывало, с тобою иной раз в пустынный Курск завернемся, так и там никто на нас смотреть не хотел. Впрочем, я-то и теперь только смиренный иеромонах, а ты уже стоишь на чреде боярской…
– Погоди, Сильвестр, – сказал одобрительно Шакловитый, – станешь и ты скоро на такую высоту, о какой тебе и не думалось.
– Нешто и я доберусь до пестрой патриаршей ризы? – полушутя и полууверенно спросил монах.
– Отчего ж не добраться, если только удастся то, что задумал я и о чем пришел потолковать с тобою? – проговорил твердо окольничий.
– А что же такое ты задумал?
– Задумал я женить князя Василья Васильевича на царевне Софье Алексеевне, объявить его царем, самому стать при нем первым лицом, а тебя, земляка, поставить патриархом московским и всея Великия, Малыя и Белыя России.
Сильвестр добродушно засмеялся.
– Смел ты больно!.. Хватит ли у тебя на то сил? – спросил он с выражением сомнения.
– Сил-то как не хватить, когда стрельцы у меня под рукою! А хватит ли у меня уменья без твоих разумных советов?
– Ведь вот какие диковинные затеи у тебя в голове! Об них небось мы не только не смели сами помыслить, когда служили вместе в приказе Тайных дел подьячими, да еще ловили и пытали таких затейщиков! – смеясь, проговорил Сильвестр.
– Прежняя служба пошла мне впрок, на ней ко многому я присмотрелся и многому научился; да времена-то теперь не те: из простого приказного попал я в окольничие, из бедного стал богатым; царевна пожаловала мне много вотчин и отписной двор в Белом городе на Знаменке. Неужели же остановиться на этом и не попытаться идти далее? – говорил Шакловитый.
– Ну, так если уже ты пришел ко мне, Федор Леонтьевич, за советом, скажу тебе вот что: нужно, чтобы царевна венчалась на царство и объявила себя самодержицею, тогда власть ее не только будет равно власти ее братьев, но, как старшая между ними, она будет первою царствующею особою. А о браке князя Василия с правительницею пока не думай. Еще Бог знает кто может быть ее суженым! – сказал загадочно Сильвестр.
Шакловитый вопросительно взглянул на него и призадумался, а монах замолчал.
– Да кто же, кроме князя Василья, может быть достоин ее руки? – заговорил Шакловитый.
– Ну, Федор Леонтьевич, в истории разные случаи бывали. Да и что тебе за нужда идти в сваты? Выбрать мужа будет делом самой царевны, а ты только устрой при помощи стрельцов так, чтобы она венчалась на царство, а без этого ничего не выйдет. Подрастет царь Петр и отнимет у нее правление. Смотри, каким орлом этот малолеток и теперь уже выглядывает! Не даст он царевне долго оставаться с ним в одном гнезде, выживет ее оттуда.
Черные глаза Шакловитого злобно сверкнули, и судорожная дрожь подернула его губы.
– Ну, это еще посмотрим! – насупясь, промолвил он. – Хотя орел и знатная птица, да ведь и ее общипать можно!.. А что, отец Сильвестр, погадал ты мне на звездах?
Сильвестр вздрогнул, медленно приподнимаясь с кресел. «Ох, ох! Плохо тебе будет!» – подумал он и, подойдя к полке, приделанной вдоль стены, достал с нее ворох бумаг и выбрал оттуда один листок.
– Вот твой жребий, – сказал он, показывая Шакловитому кусок бумаги, исчерченный кругами и линиями, исписанный цифрами со множеством вычислений и помарок и искрещенный разными непонятными фигурами.
– Ничего я тут, отец Сильвестр, в толк взять не могу! – сказал он.
– Еще бы захотел понять что-нибудь! Всему, брат, нужна наука. Разъяснить эти чертежи, фигуры и цифры может только такой звездочет или астролог, как я, – не без самоуверенной гордости заметил монах. – Смотри, – качал он, положив на стол бумагу и указывая на ней циркулем, – вот здесь будут знаки Зодиака, а здесь идут планиды, а тут звезды…
Шакловитый приготовился слушать внимательно объяснения Сильвестра, как вдруг вбежал в комнату молодой келейник.
– Боярин князь Василий Васильевич пожаловал к тебе, отец строитель! – торопливо крикнул келейник.
Сильвестр и Шакловитый взглянули в окно.
По дорожке, обсаженной по сторонам молодыми березами и ведшей к хоромам строителя, важно и медленно шел сановитый Голицын. Монах и окольничий поторопились выйти к нему навстречу, но, прежде чем успели подойти к боярину, к нему уже подбежал завидевший его Силин. Митька упал на колени перед князем и раболепно поцеловал полу его ферязи, а боярин снисходительно протянул ему свою руку, которую он тоже поцеловал.
– Поди-ко сюда, – подмигнул ему Голицын, вызывая его с дорожки на лужайку.
Заметив, что боярин хочет говорить с Митькою наедине, Сильвестр и Шакловитый приостановились.
– Ну что же, Митька, гадал ты мне в солнце? – полушепотом спросил Голицын. – Что же ты узнал?
– Ты любишь чужбину, и она тебя любит, а свою жену ты забыл, – шепнул ему на ухо Митька и, тотчас же отскочив от боярина, встал почтительно за его спиною.
Голицын как будто пошатнулся при этих словах Митьки и нахмурил брови.
– Глупости ты городишь! – сказал он ему через плечо, полуоборотя к нему свое лицо.
– Ни, не глупства, наияснейший князь, не глупства я молвлю, а правду, – смело возразил поляк.
Голицын сделал вид, что не слышит этого возражения, и пошел далее. Сильвестр и Шакловитый поспешили к нему. Боярин, сняв шапку, подошел под благословение отца строителя и приветливо кивнул головою окольничему, как близкому человеку.
Вошедшего в келью Голицына Сильвестр усадил в кресло около стола.
– А ты, отец Сильвестр, по-прежнему занимаешься отреченною наукою?* – начал князь, увидев попавшийся ему на глаза гороскоп Шакловитого. – Смотри, сожжем мы тебя когда-нибудь на Болоте в срубе за колдовство!
– Это, боярин, не колдовство, а наука, – заметил Сильвестр.
– У нас, на Москве, наука и колдовство почитаются за одно и то же, – возразил Голицын.
– Правда твоя, боярин, не только черный народ, но и служилые люди и даже боярство куда еще не просвещенны у нас. Для них разгадка тайностей природы кажется чародейством, тогда как познание таковых тайностей ведет к познанию величия Божьего! – говорил монах.
– Ну, знаешь, отец Сильвестр, по-моему, хотя в природе и есть божественные тайности, однако же бывает и колдовство, – начал поучительно Голицын, отличавшийся при всем своем уме большим запасом суеверия.
Шакловитый с напряженным вниманием, как бы переходившим в благоговение, стал прислушиваться к завязывавшейся беседе между Сильвестром и Голицыным, считавшимися в ту пору самыми умными и просвещенными людьми не только в Москве, но и во всем Московском государстве.
– Как, например, постичь то, что я однажды, в тысяча шестьсот семьдесят пятом году, сам видел в царском дворце и о чем покойный царь Алексей Михайлович указал, на память будущим векам, записать в дворцовых книгах? А видел я вот что: какой-то простой заезжий в Москву человек положит на стол ножи, а потом они вдруг на пол-аршина, а почитай, что и более, поднимутся над столом невидимою силою, да мало того, что поднимались сами, а поднимали за собою без всякой привязи и деньги, и венки из цветов. Думали все, что тут дьявольское наваждение, ан нет, совсем не то. Позволял он всем крестить ножи, читать над ними: «Да воскреснет Бог» – и кропить их святою водою, а они и после того поднимались со стола по-прежнему. Доказательно стало тогда всем, что нечистой силы тут нет, хотя, как известно, она при оплошке человека горазда действовать разными обмороченьями.
– Да, при крестном знаменье, молитве и при святой воде нечистой силе ходу не бывает, – глубокомысленно заметил Сильвестр, – тут должна быть наука.
– Вот о расширении-то ее в российских пределах и нужно нам усердствовать. К слову: когда же ты, отец Сильвестр, приготовишь привилегию на академию для поднесения ее правительнице-царевне? Ведь она ждет ее с нетерпеливостью. Ты хорошо знаешь ее ревность к наукам?
– Как не знать! Сперва от покойного Симеона слыхал, а потом и сам в том убедился. Дивлюсь ей, дивлюсь и дивиться не перестану! – с восхищением говорил Сильвестр.
– Совсем на иную стать она теремную жизнь повела, и сдается мне, что скоро придет пора, когда царством Московским будут править женщины да книжные люди, – с уверенностью сказал Голицын.
– Если Господь Бог потерпит грехи наши и продлит благословенное правление царевны, – озабоченно промолвил Сильвестр, – царь Петр подрастет…
– И изведет он нас всех! – вдруг с озлоблением крикнул не выдержавший Шакловитый.
Голицын исподлобья взглянул на него.
– Не изводить же его нам, – сказал сурово боярин.
– К чему посягать на царское величество! – перебил Сильвестр. – И без такого страшного злодейства обойтись можно. От чего бы, например, правительнице не венчаться на царство и не объявить себя самодержавною? Тогда бы она стала вровень с братьями-царями и власть ее была бы без нынешней шаткости, – сказал Сильвестр.
Шакловитый одобрительно кивал головою в то время, когда говорил монах.
– Мы здесь люди близкие между собою, – начал Голицын, – и скажу я тебе, отец Сильвестр, что мне часто приходит на мысль то, о чем ты теперь говоришь. Да подождать надо. Вот как покончим мы переговоры со шведскими послами, заключим мир с Польшею да сходим в Крым войною на басурманов, тогда прославится во всей вселенной правление премудрой царевны Софьи Алексеевны, и можно будет подумать об ее венчании на царство. А до той поры нужно только подготовлять к этому наш народ, потому что женское правление для него не за обычай.
Сильвестр и Шакловитый проводили Голицына за монастырские ворота. Против тогдашнего обыкновения бояр Голицын ездил в колымаге без многочисленной прислуги. С ним были только два вершника, которых он, разъезжая по Москве, посылал иной раз с дороги за приказаниями к разным должностным лицам. Из Заиконоспасского монастыря Голицын поехал осматривать строившуюся тогда по его распоряжению на главных улицах Москвы бревенчатую и дощатую мостовую для уничтожения в городе той грязи, которая в осеннюю и в весеннюю пору не позволяла иногда ни проехать ни пройти. Под главным надзором Голицына работа шла чрезвычайно деятельно. Заехал также Голицын и к нынешнему Каменному мосту на Москве-реке. На берегу ее, в этом месте, работа кипела еще деятельнее; тут занято было множество народу: одни свозили камень, другие тесали его, третьи устраивали на реке плотину.
– Бог на помочь! – весело смотря на кишевшую толпу рабочих, крикнул Голицын, завидев идущего к нему монаха с чертежом в руке, в сопровождении нескольких рабочих, которые шли за ним с мерными саженями, аршинами, лопатами и бечевками.
Голицын вышел из колымаги и подошел к берегу реки, приняв благословение от монаха.
– Живо, честный отец, идет у тебя работа! – сказал Голицын.
– Благодарение Господу! Задержки и препятствий пока никаких нет; кладу теперь первый устой, и, кажись, будет прочно.
– Оканчивай, оканчивай поскорее, – одобрял Голицын, – соорудишь ты мост, соорудишь себе и славу, и имя твое памятно будет в Москве вовеки, – предсказывал боярин строителю Москворецкого моста, впрочем, ошибочно, так как имя его не сохранилось в потомстве. – Говорят, – продолжал Голицын, – что я люблю иноземцев. Правда, я люблю их за познания, но если я найду знания у православного русского человека, то всегда предпочту его каждому иноземцу. Ведь вот сколько иностранных архитекторов и художников вызывалось построить мост, а я все-таки доверил тебе это дело, преподобный отец, зная, что ты своими знаниями и сметливостью по строительной части не уступишь никому из иноземцев.
Голицын хвалил и ободрял монаха-техника и возвратился домой чрезвычайно довольный тем, что предпринятые им постройки идут так успешно.
XXVI
Царевна Софья Алексеевна вошла в довольно просторную комнату, в которой стены и потолок были обиты гладко выстроганными липовыми досками, а в углу была каменка – невысокая, с большими створчатыми дверцами печь из зеленых изразцов. Около одной стены этой комнаты стояла широкая с деревянным изголовьем лавка, с набросанными на нее свежими душистыми травами и цветами, покрытыми белою как снег простынею, а подле лавки были две большие лахани и шайка из липового дерева. У другой стены была поставлена постель, прикрытая шелковым легким покрывалом, с периною и подушками, набитыми лебяжьим пухом. Пол этой комнаты был устлан сеном и можжевеловыми ветвями, с разбросанными по ним березовыми вениками, которые в огромном количестве доставлялись в Кремлевский дворец в виде оброка из царских вотчин. Комната, в которую вошла Софья, не имела окон, а освещалась несколькими привешенными к потолку слюдяными фонарями. В ней была баня, или так называемая «мыленка». Вода сюда поднималась из Москвы-реки посредством машины, устроенной для Кремлевского дворца каким-то хитрым немцем, которому царь Алексей Михайлович, как говорили, заплатил за эту не виданную еще в Москве выдумку несколько бочонков золота, а ненужная вода стекала с полу «мыленки» в реку через свинцовые трубы.
Сопровождавшие царевну постельницы сняли с нее обычную одежду и принялись мыть ее и парить, а потом она понежилась с часик на лебяжьем пуху в душисто-бальзамическом воздухе роскошной «мыленки».
По выходе из «мыленки» царевна пошла в мастерскую палату, или «светлицу», просторную комнату со многими большими окнами. Здесь до пятидесяти женщин и девушек шили постоянно наряды для цариц и царевен. В мастерской можно было насмотреться на все ткани, составлявшие тогда предмет роскоши. Там были: аксамит, или парча, с шелковыми разводами или узорами, венецианский бархат, объярь – тяжелая шелковая материя, атлас, «зуфь» – нечто вроде камлота*, тонкие арабские миткали* и кисея, привозимая из Крыма. Царевна захотела посмотреть, как идет работа по заготовке пышного царственного облачения, в котором она через несколько дней должна была принять приехавших в Москву шведских послов. В обыкновенную пору мастерицы заняты были не одним только шитьем одежды, но и заготовлением белья, а также шитьем облачения, вышивкою золотом и шелками пелен, воздухов, плащаниц и икон с мозаичных рисунков, и всеми этими предметами делались от царской семьи приношения в церкви и во святые обители. Заготовлялись также в мастерской палате разные подарки для европейских государей, турецкого султана и крымского хана. Вообще, там всегда шла самая деятельная работа под надзором ближних боярынь, царевен и самих цариц. Теперь все эти работы, для которых так называвшиеся «знаменщики» рисовали узоры, были приостановлены на время, так как вся мастерская палата спешила окончить для царевны ее великолепный наряд.
Заглянула, кстати, царевна и в кладовую, или, по-нынешнему, в гардеробную, где хранились разные принадлежности ее туалета. Там на «столбунцах», или болванах, были надеты зимние и летние шляпы царевны. Летние ее шляпы были белые поярковые* с высокою тульею; поля этих шляп, подбитые атласом и отороченные каемкою из атласа, были глянцевитые, так как они окрашивались белилами, приготовленными с рыбьим клеем. Шляпы по тулье были обвиты атласными или тафтяными лентами, расшитыми золотом и унизанными жемчугом и драгоценными камнями. Ленты эти шли к задку шляпы и там распускались книзу двумя длинными концами, к которым были пришиты большие золотые кисти. Летние шляпы составляли важную статью в наряде тогдашних московских щеголих, и у царевны Софьи было в кладовой до шести таких шляп. Здесь же хранились и зимние ее шапки с бобровыми и собольими околышами и с небольшим мыском спереди, а бархатные их тульи были сделаны «столбунцом», или, говоря иначе, имели цилиндрическую форму, и были вышиты разными узорами, изображавшими пав, единорогов и орлов не только двуглавых, но даже и осьмиглавых. Хранились также в кладовой и другие головные уборы: меховые каптуры и треухи. Каптуры – убор вроде капора с тремя широкими лопастями мехом вверх, прикрывавшими затылок и часть лица с обеих сторон, а треухи – название слишком неблагозвучное для нынешних дамских мод – были такого же покроя, как и каптуры, с тою разницею, что у них соболий или бобровый мех был подкладкою, а покрышкою служил атлас, унизанный яхонтами* и алмазами.

